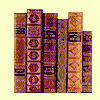
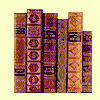 |
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА | Карта сервера • Напишите нам | |
ТОЛСТЫЕ КНИГИ | |||
| • • • | Форум • Нет наркотикам! • Наши специалисты • Родителям • Подросткам • Врачам • Учителям | ||
|
| 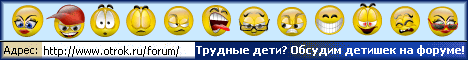 ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ. САМОУБИЙСТВО.Эмиль Дюркгейм. Самоубийство: социологический этюд. Печатается с некоторыми сокращениями по изданию: СПб., 1912 Пер. с французского А. Н. ИЛЬИНСКОГО Издание Н. П. КАРБАСНИКОВА СПб. 1912 Эмиль Дюркгейм (1858—1917) — классик западной социологии, профессор университетов Бордо и Сорбонны. В своем творчестве обосновывал идею общественной солидарности, зависимости людей друг от друга. Данная работа написана на обширном фактическом материале, охватывающем как продолжительный временной интервал, так и многие страны Европы. Это позволило автору проанализировать феномен самоубийства с самых различных сторон: социальной, морально-психологической, религиозной, этнической и др. ПРЕДИСЛОВИЕС некоторого времени социология вошла в моду;
самое слово «социология» стало теперь употребляться очень часто, а еще десять
лет назад оно было малоизвестно и почти осуждено наукой. Социология находит
себе все новых и новых сторонников, и в публике слагается какое-то предвзято
благосклонное отношение к этой новой науке, на которую возлагаются самые
большие надежды. Нельзя, однако, не признать, что полученные до сих пор
результаты не вполне оправдывают ни большого количества опубликованных по этому
вопросу трудов, ни затраченного на них интереса читателей. Прогрессивное развитие какой-либо отрасли науки
выражается главным образом в том, что трактуемые ею вопросы не остаются в
стационарном состоянии; лишь тогда говорят про данную науку, что она двигается
вперед, если ею устанавливается дотоле неизвестная законообразность явлений
или по крайней мере открывается ряд новых факторов, которые, не позволяя
делать окончательных выводов, способны изменить самую точку зрения на
затрагиваемую проблему. К несчастью, в силу того что социология в большинстве
случаев не ставит себе точно определенных проблем, она не может тем самым
служить таким примером. Она не прошла еще через периоды построений и синтезов.
Вместо того чтобы поставить себе целью осветить своими лучами определенную
часть необъятного социального поля, социология в большинстве случаев ищет
блестящих выводов, причем все вопросы только подвергаются общему обзору, но
отнюдь не исследуются по-настоящему; такой метод легко ведет к злоупотреблениям,
давая читающей публике так называемое «представление» о всякого рода вещах, но
не приходя при этом ни к какому объективному результату. Законы бесконечно
сложной действительности не могут быть открыты путем таких кратких обсуждений и
мимолетных интуиций; особенною же бездоказательностью отличаются широкие и
поспешные обобщения. Все, что можно сделать при таком понимании задач
социологии,— это привести при случае несколько подтверждающих предлагаемую
гипотезу примеров; но одни иллюстрации еще не могут служить доказательством
чего бы то ни было; к тому же если затрагивается такая масса различных
вопросов, то ни в одном из них нельзя быть компетентным. И приходится пользоваться
чисто случайными сведениями, без всякого критического к ним отношения. Таким
образом, книги по чистой социологии не могут быть полезны тому, кто поставил
себе правилом иметь дело лишь с вопросами строго определенными, так как
большинство из них не входит в рамки какой-либо особой отрасли исследования и,
кроме того, чрезвычайно бедно сколько-нибудь авторитетными документальными
данными. Каждый человек, верующий в будущее социологии, должен всеми силами души стремиться к тому, чтобы положить конец такому положению вещей. Если социология-будет и дальше пребывать в таком состоянии, то она быстро впадет в прежнюю немилость, к немалой радости всех врагов знания. Для человеческого разума было бы в высшей степени плачевно, если бы часть действительности, представляемая социологией,— единственная, отказывающаяся ему до сих пор покориться, единственная, о которой ведутся еще горячие пререкания,— хотя бы только на время ускользнула из-под его власти. Неопределенность полученных до сих пор результатов отнюдь не должна нас обескураживать: это аргумент в пользу того, чтобы употребить новые усилия, а не в пользу того, чтобы отказаться от усилий. Наука, только еще вчера зародившаяся, имеет право ошибаться и идти ощупью, если только она сама сознает свои ошибки и колебания и тем самым предохраняет себя от возможности их повторения. Социология не должна отказываться ни от одной из своих высоких задач, но если она хочет оправдать возлагающиеся на нее надежды, то она должна стремиться к тому, чтобы стать чем-либо иным, а не только своеобразной разновидностью философской литературы. Вместо того чтобы предаваться метафизическим
размышлениям по поводу социальных явлений, социолог должен взять объектом своих
изысканий ясно очерченные группы фактов, на которые можно было бы указать, что
называется, пальцем, у которых можно было бы точно отметить начало и конец — и
пусть он вступит на эту почву с полной решительностью. Пусть он старательно
рассмотрит все вспомогательные дисциплины— историю, этнографию, статистику,
без помощи которых социология совершенно бессильна. Если при таком методе
работы можно чего-либо опасаться, так это только того, что при всей
добросовестности социолога данные, добытые социологом, не будут исчерпывать
изученного им материала, так как сам материал настолько богат и разнообразен,
что хранит в себе неистощимую возможность самого неожиданного, самого
нечаянного стечения обстоятельств. Но не надо, конечно, придавать этому преувеличенного
значения. Раз социолог пойдет указанным нами путем, то даже в том случае, если
фактический инвентарь его будет не полон, а формулы слишком узки, работа его будет,
бесспорно, полезна — и будущее поколение продолжит ее, потому что каждая концепция,
имеющая какое-нибудь объективное основание, не связана неразрывно с личностью
автора; в ней есть нечто безличное, благодаря чему она переходит к другим людям
и воспринимается ими; она способна к передаче. Благодаря этому в научной работе
создается возможность известной преемственности, а в этой непрерывности лежит
залог прогресса. Именно в этой надежде написана предлагаемая нами
работа. И если среди различных вопросов, которые разбирались нами на всем
протяжении нашего курса, мы выбрали темой настоящей книги самоубийство, то
поступили мы так главным образом потому, что самоубийство принадлежит к числу
явлений наиболее легко определяемых и может служить для нас исключительно
удачным примером; но и тут для точного определения очертаний нашей темы нам
понадобилось немало предварительной работы. Зато, сосредоточиваясь таким
образом на одном каком-нибудь вопросе, нам удается открывать законы, которые
лучше всякой диалектической аргументации доказывают возможность существования
социологии как науки. В дальнейшем изложении читатель познакомится с теми из
этих законов, которые, как мы надеемся, нам удалось доказать. Без всякого
сомнения, нам не раз случалось ошибаться, чрезмерно увлекаться в своей
индукции и отдаляться от наблюдаемых фактов; во всяком случае, каждое из своих
положений мы подкрепляли возможно большим количеством доказательств; особенное
внимание мы обращали на то, чтобы как можно тщательнее отделить рассуждение по
поводу данного положения и нашу субъективную интерпретацию его от самих
рассматриваемых фактов. Таким образом, читатель может сам оценить, насколько
основательны предлагаемые ему объяснения, имея под руками все данные для
обоснованного суждения. Поставив точные границы своим изысканиям, необходимо,
кроме того, категорически воздержаться от изложения общих взглядов на изучаемый
предмет и от так называемого краткого общего обозрения темы. Мы думаем, что
достигнутые нами результаты, а именно установление известного количества положений
относительно брака, вдовства, семьи, религиозной общины и т. д., дают нам
возможность, разумеется при правомерном пользовании этим материалом, научиться
гораздо большему, чем изучая заурядные теории моралистов о природе и качестве
этих явлений и учреждений. В нашей книге читатель найдет также несколько
указаний на причины общего недуга, заразившего в настоящее время все
европейское общество, и на те средства, которыми этот недуг может быть
ослаблен. Никогда не надо думать, что общее положение вещей можно объяснить при
помощи обобщений. Можно говорить об определенных причинах только после
тщательного наблюдения и изучения не менее определенного внешнего их
проявления. Самоубийства в том виде, в каком они сейчас наблюдаются, являются
именно одной из тех форм, в которых передается наша коллективная болезнь, и они
помогут нам добраться до ее сути. Предлагаемый нами метод целиком зиждется на том
основном принципе, что социальные явления должны изучаться как вещи, т. е. как
внешние по отношению к индивиду реальности. Для нас это столь оспариваемое
положение является основным. В конце концов, для того чтобы существование
социологии было возможным, раньше всего нужно, чтобы у нее был специальный,
только ей принадлежащий объект изучения, чтобы она поставила своей задачей
изучение реальности и не была зависима ни от какой другой отрасли знания. Но
если нет ничего реального за пределами единичного сознания, то социология как
таковая должна исчезнуть за неимением материала. Единственный предмет, к которому тогда может применяться наблюдение, это состояние ума индивидов, ибо ничто иное не существует; но это — задача психологии. С этой точки зрения все, что есть существенного в браке, или в семье, или в религии, заключается в тех индивидуальных потребностях, которым предназначены служить эти институты, а именно: отцовская и сыновняя любовь, половое влечение, то, что называется религиозным инстинктом, и т. д. Что же касается самих институтов с их исторически выработанными формами, столь сложными и разнообразными, то этой стороной дела можно пренебречь: она представляется малоинтересной. Будучи только внешним и случайным выражением общих свойств природы индивидуума, вышеназванные институты являются лишь одним из ее проявлений и не требуют специального исследования. Конечно, при случае любопытно заняться изучением того, какое внешнее выражение получали в различные исторические эпохи эти вечные человеческие чувства; но так как каждое такое внешнее выражение несовершенно, то им нельзя придавать слишком большого значения. В некотором отношении бывает даже полезно вовсе отбросить их, чтобы лучше проникнуть в глубь оригинального подлинника, в котором чувства эти черпают свой смысл и истинная природа которого искажается внешней передачей. Таким образом, под предлогом того, чтобы дать
науке более глубокую подпочву, основывая ее на психологическом строении
индивида, ее отделяют от единственного свойственного ей предмета. Обыкновенно
в таких случаях не замечают того, что социологии не может быть там, где нет
общества, а общества нет там, где есть только индивиды. К тому же эта концепция
является одной из главных причин, поддерживающих в социологии вкус к неясным
обобщениям. Вполне естественно, что если за конкретными формами социальной жизни
не признается самостоятельного существования, то нет и желания заниматься их
описанием. Мы твердо надеемся, что, читая нашу книгу, каждый
согласится с нами в том, что над индивидом стоит высшая духовная реальность, а
именно коллектив. Когда станет очевидно, что у каждого народа существует свой
особый процент самоубийства, что процент этот более постоянен, чем общая
смертность, что если он вообще эволюционирует, то — следуя коэффициенту
ускорения, свойственному каждому обществу, что все его колебания в различные
моменты дня, месяца, года только воспроизводят ритм общей социальной жизни;
когда убедятся, что брак, развод, семья, религиозная община, армия и т. д.
влияют на него по точно определенным законам, из которых некоторые могут быть
выражены даже цифрами; когда убедятся во всем этом, то откажутся видеть в этих
состояниях и институтах какие-то идеологические установления, не имеющие ни
силы, ни значения. Тогда почувствуют, что это—реальные, живые действующие
силы, которые, определяя собою индивида, тем самым ясно доказывают, что они не
зависят от него, по крайней мере тогда, когда он входит в качестве элемента в
те комбинации, результатом которых они являются. По мере того как вышеназванные
силы формируются, они налагают свою власть на индивида. Приняв это во внимание,
легче понять, каким образом социология может и должна быть объективной, ведь
она имеет перед собой столь же определенные и столь же прочные реальности, как
предмет изучения психолога или биолога*. * Далее мы
укажем, что эта точка зрения, далекая от того, чтобы исключать всякую свободу,
является единственным средством примирения ее с детерминизмом, непосредственно
вытекающим из данных статистики. Нам остается выразить свою благодарность нашим бывшим ученикам г-ну Феррану, преподавателю Высшей первоначальной школы в Бордо, и г-ну Марселю Моссу, приват-доценту философии, за ту готовность помочь нам, которую они проявили, и за те незаменимые услуги, которые они нам оказали. ВВЕДЕНИЕI Так как самое слово «самоубийство» бесконечное
число раз употребляется в нашей речи, то, казалось бы, можно рассчитывать, что
точный смысл его понятен каждому и определение его с нашей стороны будет
совершенно излишним. Но на самом деле слова нашей обыденной речи, как и
выражаемые ими понятия, всегда и неизбежно двусмысленны, и тот ученый, который
стал бы употреблять эти слова в их обыкновенном значении и не подвергая их
никакой предварительной обработке, стал бы неминуемо жертвой серьезных
недоразумений. Не только понимание слова так широко, что изменяется в различных
случаях по мере надобности, но, кроме того, так как классификация ходячих
понятий не имеет своим основанием методического анализа, а только передает,
смутные и неясные впечатления толпы, то можно беспрестанно наблюдать, как
целые категории совершенно разнородных фактов непонятно почему собраны под
одной рубрикой или как явления однородные называются разными именами. Итак,
если полагаться на традиционное значение слов, то можно впасть в заблуждение,
а именно придать различный смысл тому, что должно быть соединено вместе, и,
наоборот, смешать то, что должно быть разделено, и, таким образом, не заметить
действительного родства вещей и не понять их природы. Только путем сравнения
можно подойти к объяснению. Научное исследование не может достигнуть своей цели
иначе как сравнением фактов, и у него тем более будет шансов на успех, чем
увереннее оно будет, что собрало все явления, которые можно с пользой сравнить
между собой. Но эти естественные средства индивидов не могут быть опознаны с достоверностью
путем простого внешнего наблюдения, подобного тому, результатом которого
является обыденная терминология; следовательно, ученый не может взять объектом
своих изысканий вполне установленную группу фактов, которой точно отвечали бы
слова разговорной речи; он сам должен установить группы, которые он хочет
изучать, с тем чтобы придать им известную однородность и ту специфичность, вне
которых немыслима никакая научная работа. Подобным же образом ботаник, говоря
о плодах или цветах, и зоолог, говорящий о рыбах и насекомых, употребляют
различные термины в том значении, какое они должны были предварительно
установить. Нашей первой задачей должно быть определение
группы тех фактов, которые мы предлагаем изучать под именем самоубийства. Для
этого мы должны рассмотреть, есть ли среди различных видов смерти такие,
которые имеют общие характерные черты, достаточно объективные для того, чтобы
быть признанными каждым добросовестным наблюдателем, достаточно
специализированные для того, чтобы нигде уже более не встречаться, и в то же
время достаточно близкие к тому, что обыкновенно называется самоубийством, для
того чтобы, не насилуя обычной терминологии, мы могли сохранить это выражение. Если таковые нам встретятся, то под этим наименованием
мы соберем все без исключения факты, имеющие ясно выраженный характер, и не
будем беспокоиться о том, что образованная таким образом классификация не
вмещает, быть может, всех называемых обыкновенно этим именем случаев или,
наоборот, вмещает в себя и такие случаи, которые обыкновенно носят другое
название. Важно не то, чтобы уметь выразить более или менее определенно то
понятие, какое составил себе о самоубийстве, средний интеллект; нужно
установить целую категорию явлений, которые не только могут без всякого
затруднения быть занесены в эту рубрику, но, кроме того, имеют объективное
основание, т. е. соответствуют определенной природе вещей. Среди различных
видов смерти есть имеющие в себе особую черту, заключающуюся в том, что смерть
является делом самой жертвы, что страдающим лицом является сам действующий
субъект; с другой стороны, можно с определенностью сказать, что
общераспространенное мнение о самоубийстве именно этот момент считает для него
характерным; внутренний мотив такого рода поступков с этой точки зрения
не имеет определяющего значения. Хотя в общем самоубийство представляют себе
как положительный и неизбежно насильственный поступок, который требует
известной затраты мускульной силы, но вполне может случиться, что совершенно
отрицательное состояние или простое воздержание породят тот же результат. Можно
лишить себя жизни, отказываясь от принятия пищи, точно так же, как и
посредством ножа или выстрела. Вовсе не нужно, чтобы покушение на самоубийство
влекло за собой непосредственный смертельный исход, для того чтобы можно было
смерть признать результатом данного действия; причинная связь может и не быть
прямой, от этого нисколько не меняется самая природа явления. Иконоборец, жаждущий
мученического венца, совершающий сознательное оскорбление величества, караемое
смертной казнью, и умирающий от руки палача, является самоубийцей не в
меньшей степени, чем тот, кто сам наносит себе смертельный удар; нет никакого
основания для различной классификации этих двух разновидностей добровольной
смерти, если вся разница между ними заключается только в материальных деталях
исполнения. Таким образом, прежде всего мы получаем следующую формулу:
самоубийством называется всякий смертный случай, являющийся непосредственным
или посредственным результатом положительного или отрицательного акта,
совершенного самой жертвой. Но это определение недостаточно полно; оно не
различает двух совершенно различных видов смерти. Нельзя относить к одному
разряду и рассматривать с одинаковой точки зрения смерть человека, страдающего
галлюцинациями, который выскакивает из окна верхнего этажа, думая, что оно
находится в уровень с землей, и смерть психически здорового человека,
убивающего себя вполне сознательно. Ведь, строго говоря, почти нельзя указать
такого смертельного исхода, который не был бы близким или отдаленным
последствием того или иного поступка самого пострадавшего лица. Правда,
причины смерти чаще лежат вне нас, чем внутри нас, но они влияют на нас только
тогда, когда мы сами вступаем в сферу их действия. Можно ли утверждать, что
смерть только тогда может называться самоубийством, когда сама жертва, совершая
поступок, знает, что он будет иметь смертельный исход? Что только гот
действительно убивает себя, кто хочет этого, и что самоубийство есть намеренное
убийство самого себя? Прежде всего это значило бы определить самоубийство при
помощи такого признака, который, каковы бы ни были его интерес и важность,
лишь с трудом поддается наблюдению, а, следовательно, не легко может быть
установлен. Как узнать, что именно заставило действующее лицо решиться на
самоубийство; и, когда он решился, желал ли он именно смерти или преследовал
другую какую-нибудь цель? Само намерение есть слишком интимное проявление воли
и может быть рассматриваемо извне только самым грубым и приблизительным образом;
оно ускользает даже от внутреннего наблюдения. Как часто мы ошибаемся относительно
настоящих мотивов наших поступков! Как часто мы объясняем наши поступки
благородными порывами, возвышенными соображениями, тогда как они вызваны
мелкими чувствами и слепой силой рутины. В общем, поступок не может определяться целью,
преследуемой действующим лицом, потому что однородные движения могут
относиться к самым различным целям. Если допустить, что самоубийство имеет
место только в том случае, когда у человека было определенное намерение убить
себя,— под наше определение самоубийства не подошли бы многие факты, в
существе своем, несмотря на кажущуюся разнородность, вполне идентичные с теми,
которым это название дается решительно всеми и которых нельзя называть иначе,
так как это значило бы отнять у этого термина всякое определенное
употребление. Солдат, идущий навстречу верной смерти, для того чтобы спасти
свой полк, не хочет умереть, а разве в то же самое время он не является
виновником своей смерти в том же значении этого слова, в каком оно применимо к
промышленнику или коммерсанту, убивающему себя, для того чтобы избегнуть стыда
и позора банкротства. То же самое можно сказать о мученике, умирающем за веру,
о матери, приносящей себя в жертву своему ребенку, и т. д. Принимается ли
смерть только как печальное, но неизбежное условие той цели, к которой субъект
стремится, или же он ищет ее ради нее самой — в обоих случаях он отказывается
от существования, и различные способы расчета с жизнью могут быть рассматриваемы
только как разновидности одного и того же класса явлений. Между всеми этими
разновидностями слишком много основного сходства, для того чтобы их
нельзя было объединить под одним родовым термином, строго различая при этом все
виды этого рода. Правда, согласно обыденному представлению, самоубийство есть
прежде всего порыв отчаяния у человека, который больше не дорожит жизнью; но на
самом деле человек вплоть до самого последнего момента привязан к жизни, хотя
эта привязанность и не мешает ему расстаться с нею. Во всех случаях, когда
человек отказывается от того, что считает своим высшим благом, имеются,
очевидно, общие и существенные признаки; напротив, разнородность побудительных
причин, оказавших влияние на самое решение, может вызвать лишь второстепенные
подразделения. Когда преданность чему-либо простирается до лишения себя жизни,
то с научной точки зрения это будет самоубийством; мы увидим далее, к какому
разряду надо будет отнести этот случай. Общим для всех возможных форм этого высшего
отречения является то, что поступок, освящающий это отречение, совершается
сознательно, что сама жертва в момент действия знает о последующем результате
своего поступка, каковы бы ни были мотивы, приведшие ее к совершению этого
поступка. Все смертные случаи, имеющие эту характерную особенность, резко
отличаются от тех, в которых человек или не является орудием своей смерти, или
же является им только бессознательно. В подобных случаях не представляет
чрезвычайной трудности установить, знал или нет человек заранее об
естественных последствиях своего поступка. Они составляют, таким образом,
вполне определенную, легко распознаваемую группу, которая вследствие этого
должна иметь специальное название. Термин «самоубийство» соответствует этому
понятию, и нам нет надобности придумывать новое слово, так как в состав данной
группы явлений входит огромное большинство случаев, называемых этим именем в
обыденной жизни. Следовательно, мы можем с определенностью сказать: самоубийством называется каждый смертный
случай, который непосредственно или опосредованно является результатом
положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим,
если этот последний знал об ожидавших его результатах. Покушение на
самоубийство — это вполне однородное действие, но только не доведенное до
конца. Этого определения достаточно для того, чтобы исключить из нашего
исследования все, что касается самоубийства животных. В самом деле, все,
что мы знаем об умственном развитии животных, не позволяет нам предположить у
них наличие предварительного сознания смерти, в особенности же допустить у них
знание и понимание приводящих к этому средств. Можно, правда, наблюдать
случаи, когда животные отказываются входить в помещение, где были убиты другие
животные. Можно подумать, что они как бы предчувствуют ожидающую их судьбу. В
действительности ощущение запаха крови является достаточным объяснением этого
инстинктивного сопротивления. Все хоть немного достоверные факты, в которых
хотят видеть самоубийство животных в подлинном смысле этого слова, могут быть
объяснены совершенно иначе. Если разъяренный скорпион жалит самого себя — что в
конце концов недостоверно,— то он делает это, быть может, в силу автоматической
и бессознательной реакции. Двигательная энергия, порожденная у него состоянием
раздражения, разрешается случайно, как попало; бывает иногда, что жертвой этих
движений падает само животное, и нельзя с уверенностью сказать, представляло
ли оно себе заранее последствия своего поступка. С другой стороны, если
существуют собаки, которые отказываются от принятия пищи после смерти своего
хозяина, то это означает, что тоска механическим образом лишает их аппетита;
такое состояние влечет за собою смерть, но она не является заранее предвиденным
результатом. Ни воздержание от пищи в этом случае, ни укус в предыдущем не
употреблялись как средства для достижения вполне определенной цели. Здесь не
хватает ясно выраженного характера самоубийства, как мы его уже определили
раньше. Поэтому в последующем изложении мы будем говорить только о самоубийстве
людей. Но это определение не только имеет своим преимуществом
устранение ошибочных сближений или произвольных заключений; уже теперь оно дает
нам понятие о том месте, которое самоубийство занимает в общей моральной жизни
человека. Оно нам показывает, что самоубийство не составляет, как это можно
было бы думать, совершенно обособленной группы фактов, не есть какой-то
исключительный класс чудовищных явлений, стоящих вне всякой связи с другими
видами поведения. Наоборот, мы видим, что самоубийство соединяется с ними
прерывным рядом промежуточных ступеней и оказывается только преувеличенной
формой повседневных поступков. В самом деле, только тот случай, как мы видели
выше, можно назвать самоубийством, когда жертва в тот момент, как она совершает
поступок, прерывающий течение ее жизни, ясно сознает то, что естественным
образом должно из этого поступка последовать. Но это сознание может быть той
или иной силы; придайте ему каплю сомнения — и вы получите поступок, который
уже не будет самоубийством, но который близок ему по существу и отличается от
него только по степени. Человек, сознательно подвергающий себя опасности ради
другого лица, но без явной угрозы смерти, конечно, не является самоубийцей,
даже если ему и пришлось бы умереть. Этим именем нельзя также назвать
неосторожного, как бы играющего со смертью человека, стремящегося в то же время
избежать ее, или человека апатичного, который, не будучи ни к чему привязан в
жизни, не дает себе труда позаботиться о своем здоровье и погибает от своей небрежности.
И однако, все эти виды поведения ничем коренным от самоубийства в собственном
смысле слова не отличаются; они порождают аналогичное направление ума,
поскольку в равной степени сопряжены со смертельным риском, который не остается
тайной для действующего лица и перспектива которого это последнее не устрашает;
вся разница заключается в степени вероятности смертельного исхода. Не без
некоторого основания говорят иногда, что ученый, истощив свои силы постоянным
бодрствованием, убил самого себя. Все эти случаи рисуют нам виды зачаточного
самоубийства, и если, руководясь правильным методом, их не надо смешивать с
видами полного самоубийства, то все же не надо терять из виду и то отношение
родства, которое между ними существует. Самоубийство получает совсем различную
окраску в том случае, если оно неразрывно связано с актами мужества или
самоотвержения, и в том случае, если оно является результатом неосторожности
или простой небрежности. В дальнейшем изложении будет понятнее, в каком смысле
поучительно это сближение. II Но разве самоубийство при таком его понимании
может интересовать социолога? Если оно представляет собою индивидуальный
поступок, касающийся только данного индивида, то, казалось бы, в силу этого
всецело должно зависеть от индивидуальных факторов, т. е. быть предметом
изучения психологии. В самом деле, разве поступок самоубийцы не объясняется
обыкновенно его темпераментом, характером, предшествовавшими обстоятельствами,
событиями его частной жизни? В данный момент нашей задачей не является
изыскание того, в какой степени и при каких условиях будет законно таким
образом изучать вопрос о самоубийстве: но можно сказать только одно с полной
достоверностью, а именно что оно может быть рассматриваемо с совершенно иной
точки зрения. Если вместо того, чтобы видеть в этих случаях совершенно особые
для каждого из них обстоятельства, независимые друг от друга и требующие каждое
специального рассмотрения, взять общее число самоубийств, совершенных данным
обществом в данный промежуток времени, то можно установить, что полученная
таким образом сумма не явится простой суммой независимых между собой единиц,
голым собранием фактов, но что эта цифра образует новый факт sui generis, имеющий
свое внутреннее единство и свою индивидуальность, а значит, свою особую
природу, тем более для нас важную, что она по существу своему глубоко
социальна. Если только наблюдение не захватывает очень обширного периода
времени, то для данного общества цифра самоубийств остается почти неизменной. Из года в год обстоятельства, при которых протекает
жизнь народов, остаются все те же. Правда, случаются иногда важные изменения,
но они являются только исключениями. Можно, между прочим, видеть, что они
всегда совпадают с каким-нибудь кризисом, мимолетно затрагивающим социальное
положение страны. Если наблюдать более обширный промежуток времени,
то можно констатировать еще более важные изменения; но тогда они делаются
хроническими; они указывают только на то, что характерные основы общества в то
же самое время претерпели глубокие изменения. Интересно заметить, что
изменения эти происходят вовсе не так медленно, как это им приписывается
громадным числом наблюдателей, а напротив, обладают резким и прогрессирующим
характером. Иногда после целого ряда лет, в течение которых цифры колебались в
очень близких границах, замечается повышение, которое, после некоторого
колебания, устанавливается как постоянная величина. Это доказывает, что всякое
внезапно наступившее нарушение социального равновесия всегда требует
достаточного времени для того, чтобы проявить все свои последствия. Итак,
эволюция самоубийства выражается в волнообразных, последовательных и ясно
различаемых движениях, совершающихся толчками, то усиливающихся, то приостанавливающихся,
чтобы тотчас же начаться снова. Можно видеть такую волну, образовавшуюся почти
во всей Европе на другой день после событий 1848 г., т. е. в различных
государствах на протяжении 1850— 1853 гг.; другая такая волна началась в
Германии после войны 1866 г.; во Франции ее можно было наблюдать раньше, в
эпоху апогея империи — около 1860 г. В Англии она замечается около 1868 г., т.
е. после торговой революции, вызванной вновь заключенными торговыми
договорами. Может быть, этой же причиной создано то новое увеличение случаев
самоубийства, которое относится у нас к 1865 г. Наконец, после войны 1870 г.
началось новое, до сих пор продолжающееся повышение, которое захватило почти
всю Европу. Каждое общество в известный исторический момент
имеет определенную склонность к самоубийству. Интенсивность этой склонности
измеряют обыкновенно отношением общей цифры добровольных смертей к населению
без различия пола и возраста. Мы назовем эту цифровую величину общим процентом смертности-самоубийства,
присущим определенному обществу. Вычисляют его обыкновенно по отношению к
1 000 000 или к 100 000 жителей. Этот процент не только постоянен для долгого
периода времени, но неизменяемость его оказывается еще большею, чем та, которой
обладают главные демографические явления. Общий процент смертности изменяется
гораздо чаще, из года в год, и те колебания, которым он подвергается, гораздо
более значительны. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, в
какой мере варьируют на протяжении нескольких лет процент общей смертности и
процент самоубийств. Для того чтобы облегчить это сравнение, мы как
по отношению обыкновенных смертных случаев, так и по отношению самоубийств
изобразим процент каждого года, отправляясь от средней цифры периода, принятой
за 100. Колебание из года в год, а также отклонение от среднего процента
делаются, таким образом, сравнимыми между собой. И это сравнение показывает,
что на протяжении каждого такого периода размеры колебаний гораздо более
значительны на стороне общей смертности, чем на стороне самоубийства: в среднем
первые колебания в два раза больше. Только уклонение minimuma между двумя последовательными годами выражается почти
одинаковой цифрой в обоих случаях в течение двух последних периодов. Но в
динамике общей смертности этот minimum является
исключением, тогда как, наоборот, годовые колебания самоубийств отклоняются от
него лишь в виде исключения. В этом можно убедиться, сравнивая среднюю цифру
уклонений. Правда, если сравнивать не следующие один за другим годы одного и
того же периода, но средние цифры различных периодов, то отклонения, которые
наблюдаются в проценте смертности, становятся очень незначительными. Изменения
в противоположном смысле, наблюдаемые из года в год и зависящие от преходящих
и случайных причин, взаимно нейтрализуются, когда за основание расчета берется
большая единица времени; они исчезают в средней цифре, которая благодаря такой
взаимной нейтрализации отклонений оказывается в достаточной мере постоянной.
Так, во Франции в 1841 —1870 гг. последовательно для каждого десятилетия
средняя цифра колебалась следующим образом: 23,18; 23,72; 22,87. Но во-первых,
тот факт сам по себе уже достаточно замечателен, что самоубийство из года в год
обнаруживает такое же, если не большее, постоянство, как общая смертность при
сравнении средних за целые периоды. Более того, средний процент смертности
достигает этой правильности только в том случае, если он становится чем-то
общим и безличным, почти совершенно неспособным характеризовать данное
общество. В самом деле, средняя смертность одинаково
устойчива для всех народов, достигших одного и того же уровня культуры; во
всяком случае, разница бывает очень незначительна. Так, во Франции она
колеблется на протяжении 1841 —1870 гг. около 23 смертных случаев на 1000
жителей; в то же время в Бельгии она достигает 23,93, 22,5, 24,04; в
Англии—22,32, 22,21, 22,68; в Дании—22,65 (1845—1849 гг.), 20,44 (1855— 1859
гг.), 20,4 (1861 —1868 гг.). Если исключить из этого перечисления Россию,
которая может считаться европейской страной только географически, то единственные
великие державы Европы, у которых величина смертности отличается довольно
значительно от вышеприведенных цифр, это Италия, где уровень достигал еще в
1861 — 1867гг. 30,6, и Австрия, где он еще более значителен, а именно 32,52.
Наоборот, процент самоубийств, почти не изменяясь по годам, удваивается,
утраивается, учетверяется и т. д. при переходе из одной страны в другую.
Значит, он гораздо больше, чем процент общей смертности, специфичен для каждой
социальной группы и может рассматриваться как ее характерологическая черта.
Он настолько тесно связан с тем, что есть самого глубокого и основного в каждом
национальном темпераменте, что тот порядок, в котором располагаются в этом
отношении различные общества, остается почти неизменным в самые различные
эпохи. На протяжении трех периодов (1866—1870; 1871 — 1875; 1874— 1878 гг.— Примеч. ред.) количество самоубийств
возрастало повсюду, но и в этом движении вперед различные народы сохраняли
неизменной относительную разницу; у каждого из них был свой коэффициент ускорения. Процент самоубийств указывает на вполне определенную
закономерность явлений, подтверждаемую одновременно и его перманентностью, и
его изменяемостью; эта перманентность была бы необъяснимой, если бы она не
зависела от сочетания связанных между собою характерных признаков, которые,
несмотря на разнородность окружающих их обстоятельств, одновременно утверждают
друг друга; изменяемость их свидетельствует об индивидуальной и конкретной
природе этих характерных черт, ибо они изменяются вместе с изменением самой
социальной индивидуальности. Словом, эти статистические данные выражают
наклонность к самоубийству, которой коллективно подвержено каждое общество. Мы
не будем теперь разбирать, в чем именно заключается эта наклонность и
составляет ли она состояние sui generis коллективной души,
имеющее свою собственную реальность, или же она представляет собой только
сумму индивидуальных состояний. Хотя предшествующие рассуждения с трудом
согласуются с этой последней гипотезой, мы оставляем сейчас этот вопрос
открытым и будем говорить о нем впоследствии на страницах настоящей книги. Что
бы ни думали по этому поводу, но наклонность эта существует под тем или иным
названием. В каждом обществе можно констатировать предрасположение к
известному количеству добровольных смертей. Такое предрасположение может
служить предметом социального изучения в пределах социологии. Этим-то вопросом
мы и намерены заняться. Мы не собираемся дать возможно
более полный перечень всех условий, которые могут служить причиной частных
случаев самоубийства, а ставим себе задачей отыскать те из них, от которых
зависит строго определенный факт, названный нами социальным процентом
самоубийств. Нельзя не согласиться с тем, что эти два вопроса значительно
разнятся между собой, несмотря на существующую между ними связь. В самом деле,
среди индивидуальных условий есть, без сомнения, много таких, которые не
являются достаточно общими для того, чтобы оказать влияние на соотношение
между общей цифрой добровольных смертей и численностью населения. Условия эти
могут повлиять таким образом, что тот или иной отдельный индивид лишит себя
жизни, но они не могут усилить или ослабить склонность к самоубийству всего
общества in globo.
Точно так же, если эти условия не зависят от известного состояния
социальной организации данного общества, то они не имеют социального отражения
и потому могут быть интересны для психолога, но не для социолога; предметом
изыскания последнего служат причины, при посредстве которых можно оказать
воздействие не на отдельных индивидов, а на целую группу. Поэтому среди
факторов самоубийства социолога касаются только те, которые действуют на целое
общество. Процент самоубийств есть продукт этих факторов, и вот почему они
должны интересовать нас. Таков предмет предлагаемой нами
книги, обнимающей по нашему плану три части. Явление, которое придется нам
здесь объяснять, может зависеть или от причин внесоциальных в самом общем
смысле этого слова, или от чисто социальных причин. Мы сначала займемся
рассмотрением влияния первых и увидим, что его или не существует, или оно очень
ограниченно. Мы определим затем природу социальных причин, тот способ, каким
они осуществляют свое действие, и те отношения, в каких они находятся к
индивидуальным состояниям, сопровождающим различные виды самоубийства. Закончив это изыскание, мы будем
в состоянии с большей точностью определить, в чем заключается социальный
элемент самоубийства, т. е. в чем заключается эта коллективная склонность, о
которой мы только что говорили, а также в каком отношении стоит она к другим
социальным фактам и каким путем оказалось бы возможным повлиять на нее. КНИГА I. ФАКТОРЫ ВНЕСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРАГлава I Самоубийство и психопатические состояния. Глава II Самоубийство и нормальные психические состояния. Раса. Наследственность. Глава III Самоубийство и космические факторы. Глава IV Подражание. ГЛАВА I. САМОУБИЙСТВО И ПСИХОПАТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯЕсть два рода внесоциальных причин, которым a priori можно
приписать влияние на количество самоубийств: психоорганическое предрасположение
и природа окружающей физической среды. В индивидуальном строении людей или,
во всяком случае, в строении значительного класса человеческих индивидов может
существовать склонность различной силы, в зависимости от данной страны,— склонность,
которая непосредственно влечет человека к самоубийству; с другой стороны,
климат, температура и т.д. могли бы, в силу того воздействия, которое они
производят на организм человека, приводить косвенно к тем же результатам.
Гипотеза эта, во всяком случае, не может быть отвергнута без предварительного
обсуждения. Мы последовательно рассмотрим эти два рода факторов и постараемся
узнать, имеют ли они на самом деле какое-нибудь значение для изучаемого нами
явления, и если— да, то — каково оно. I Существуют болезни, общий годовой процент которых
обыкновенно относительно постоянен для данного общества; и в то же время он
значительно колеблется у различных народов. Таково — сумасшествие. Если бы
были какие-нибудь точные данные, на основании которых в каждой добровольной
смерти можно было видеть проявление сумасшествия, то поставленная нами
проблема была бы разрешена и самоубийство было бы тогда не чем иным, как
индивидуальной болезнью. Этот тезис поддерживается значительным числом
психиатров. Так, например, Esquirol говорит:
«В самоубийстве проявляются все черты сумасшествия («Maladies mentales»). Только в состоянии безумия человек способен
покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы— душевнобольные люди». Исходя из
этого принципа, он пришел к тому заключению, что, будучи непроизвольным фактом,
самоубийство не должно быть преследуемо законом. Falret и Moreau de Tours высказывают
почти одинаковое с ним мнение по этому вопросу. Правда, последний в том же
месте своей книги, где он излагает разделяемую им доктрину, делает замечание,
которого одного достаточно для того, чтобы вызвать сомнение в справедливости
этой доктрины. «Должно ли самоубийство,— говорит он,— рассматриваться во всех
случаях как результат сумасшествия? Не желая решать здесь этого трудного
вопроса, скажем, что в общем, чем глубже удается изучить сумасшествие, чем
больше накопляется по этому вопросу опыта, чем больше, наконец, делается
наблюдений над сумасшедшими, тем сильнее подсказывает нам инстинкт, что это мнение
вполне правильно». В 1845 г. доктор Бурден в своей брошюре, появление которой
произвело большую сенсацию в медицинском мире, еще с большей убежденностью
настаивал на этом предположении. Эту теорию можно защищать двояко: можно утверждать,
с одной стороны, что самоубийство само есть болезнь sui generis, что оно представляет собой
особый вид сумасшествия, или же, не выделяя его в качестве особого вида,
усматривать в нем просто эпизодическое явление того или иного вида сумасшествия,
явление, не встречающееся у людей со здоровым рассудком. Первый тезис защищает Bourdin. Esquirol, наоборот,
является наиболее авторитетным представителем второго мнения. «Судя по
имеющемуся в нашем распоряжении материалу,— говорит он,— можно заключить, что
самоубийство представляет собой явление, зависящее от громадного количества
различных причин, что проявляется оно в самых разнообразных формах и что это
явление не знаменует собой никакой определенной болезни. Для того чтобы сделать
из самоубийства болезнь sui generis, прибегают к общим выводам, опровергаемым опытом». Из упомянутых двух способов объяснения самоубийства
путем сумасшествия второй менее убедителен и солиден в силу того принципа, что
не может быть отрицательных опытов. На самом деле невозможно составить
полный список всех случаев самоубийства и показать в каждом из них влияние
сумасшествия. Можно говорить только об отдельных частных случаях, которые,
несмотря на свою многочисленность, не могут служить основанием для научного
обобщения; если обратные примеры не приводятся, то они все же остаются
возможными. Между тем доказательство другого положения, если бы его вообще
можно было построить, дало бы самые убедительные результаты. Если бы удалось
доказать, что самоубийство есть специфическое сумасшествие, имеющее свои
отличительные, характерные черты и свое ясно выраженное развитие, вопрос был
бы решен в том смысле, что всякий самоубийца есть сумасшедший. Но существует ли
самоубийство-помешательство? II Склонность к самоубийству, по природе своей
специфическая и вполне определенная, если и является разновидностью
сумасшествия, то во всяком случае может быть только сумасшествием частичным и
ограничивающимся одним проявлением. Для того чтобы она могла характеризовать
собой особый вид помешательства, надо, чтобы последнее было направлено именно
на один этот поступок, потому что если их будет много, то не будет никакого
разумного основания брать для определения помешательства данный, а не
какой-либо другой факт. По традиционной терминологии, подобное частичное
сумасшествие называется мономанией. Мономан — это душевнобольной, сознание
которого абсолютно ясно, кроме одного пункта; поражение его интеллекта строго
локализировано. Так, например, в известные моменты его охватывает безрассудная
и нелепая страсть воровать, пить или оскорблять окружающих; но все его
остальные поступки и мысли вполне нормальны и координированы. Если существует
помешательство-самоубийство, то оно не может быть ничем иным, как мономанией, и
так его чаще всего и квалифицируют. С другой стороны, говорят, что если допустить
существование особой болезни, называемой мономанией, то в нее легко можно
включить и самоубийство; все характерное для этого вида душевных болезней, согласно
данному нами определению, заключается в том, что они не вносят существенного
расстройства в интеллект человека. Основание умственной жизни одно и то же и у
мономана, и у человека душевно здорового; только у первого определенное
психическое состояние, как патологическое, очень рельефно отделяется от этого
основного фона. Мономания — это просто преувеличенная страсть среди ряда
различных склонностей, ложная идея в ряде представлений, но идея такой силы,
что она овладевает умом человека и всецело порабощает его. Например, чувство
честолюбия из нормального становится болезненным и превращается в манию
величия, раз оно принимает такие размеры, что все остальные мозговые функции
как бы парализуются им. Достаточно одного резкого движения чувства, для того
чтобы умственное равновесие поколебалось и мономания проявила себя. Итак, можно
думать, что самоубийство совершается под влиянием какой-нибудь ненормальной
страсти, причем она либо разрешается одним ударом, либо, наоборот, идея
самоубийства назревает постепенно. Можно даже утверждать, и это будет,
по-видимому, убедительно, что всегда необходима какая-нибудь сила подобного
рода, чтобы нейтрализовать основной инстинкт самосохранения. С другой стороны,
множество самоубийц, вне того особого акта, которым они прерывают течение своей
жизни, ничем не отличаются от других людей; следовательно, нет никакого повода
для того, чтобы приписывать им общее безумие. Нам понятно теперь, почему под
этикетом мономании самоубийство нашло себе место в рядах сумасшествия. Но существует ли мономания? Долгое время существование
ее не подвергалось сомнению; психиатры единодушно принимали теорию «частичного
сумасшествия». Ее не только считали доказанной различными клиническими
наблюдениями, но даже находили для нее подтверждение в данных психологии. В то
время утверждалось, что человеческий ум состоит из различных свойств и
разрозненных сил, которые действуют по большей части вместе, но способны
действовать и порознь; поэтому вполне естественно, что они могут каждая в
отдельности быть захвачены болезнью. Если человек может проявлять разум
отдельно от воли и чувствительность отдельно от разума, то почему же не могут
тогда существовать болезни разума или воли без того, чтобы была задета
чувствительность и vice versa? Применяя тот же принцип по отношению к более
специальным формам этих душевных способностей, можно прийти к заключению, что
может быть поражена исключительно только одна какая-нибудь склонность точно так
же, как и отдельная идея или отдельный акт. В данный момент это мнение всюду отвергнуто.
Без сомнения, нельзя доказать прямо путем наблюдения отсутствие мономаний; но
вполне установлено, что нельзя привести ни одного бесспорного случая их.
Никогда клиническому опыту не удавалось доказать болезненной склонности разума
в состоянии полной изоляции; всякий раз, как какая-нибудь одна способность
души затронута болезнью, другие поражены одновременно с нею, и если сторонники
мономании не заметили существования этой общей болезненности, то это
обстоятельство свидетельствует только о неправильности их наблюдения.
«Возьмем, например,— говорит Falret,— сумасшедшего, занятого
религиозными идеями, которого отнесли бы, конечно, к разряду религиозных
мономанов. Он считает себя вдохновленным свыше, посланным Богом на землю,
несущим новое религиозное откровение. Это совершенно безумная мысль, скажете
вы, но вне области религиозных идей он рассуждает подобно всем остальным людям.
Побеседуйте с ним более внимательно, и вы тотчас же заметите в нем другие
болезненные идеи, параллельные религиозным: вы найдете у него манию величия;
он будет смотреть на себя, как на творца новой религии, реформатора всего
общества, может быть, он будет считать себя предназначенным и для еще более
высокой судьбы... Допустим, что, поискав у такого больного признаков мании
величия, вы бы не нашли их, но тогда бы вы констатировали у него идею самоунижения
или патологический страх. Поглощенный религиозными идеями больной будет
считать себя вполне потерянным, обреченным на погибель человеком и т.д.».
Конечно, все эти болезненные явления не встречаются одновременно у одного и
того же человека, но их часто можно встретить вместе, или же если они не
проявляются все в один и тот же момент болезни, то следуют друг за другом,
совпадая с более или менее близкими ее фазисами. Наконец, независимо от этих
проявлений частного характера у мнимых мономанов наблюдается особое общее
состояние всей психической жизни, составляющее основание болезни, а все
безумные идеи являются только его наружным и временным выражением; состояние
это заключается в чрезмерной возбужденности, или в крайнем упадке духа, или же
в общем извращении. В таких случаях главным образом наблюдается нарушение
равновесия и координации мыслей, так же как и движений. Больной рассуждает, и
вместе с тем в цепи его мыслей бывают пробелы; он ведет себя, не делая
абсурдных выходок, но в поведении его нет последовательности. Итак, будет не
вполне правильным сказать, что это — человек частично сумасшедший, потому что,
как только безумие проникает в сознание человека, то овладевает им целиком. Помимо того, основание, на котором покоится
вышеуказанная гипотеза мономании, находится в полном противоречии с
действительными данными науки. Старинная психологическая теория не находит
больше защитников. В различных видах сознательной деятельности теперь уже
больше не видят разрозненных сил, которые соединяются и находят свое единство
только в какой-нибудь метафизической субстанции, а видят в них связные функции
этой деятельности; поэтому невозможно, чтобы одна из них была повреждена без
того, чтобы это повреждение не отозвалось на всех остальных. Повреждение это отзывается
на мозговой жизни человека глубже, чем на всем его организме, потому что
психические функции имеют слишком общие органы, для того чтобы они могли быть
затронуты каждый в отдельности. Распределение их между различными областями
головного мозга не имеет в себе ничего прочно установленного; это доказывается
той легкостью, с которой различные части мозга могут замещать друг друга в
случае, если какая-нибудь из них окажется неспособной исполнять свою задачу.
Сплетение их слишком сложно для того, чтобы сумасшествие могло коснуться одних
безнаказанно для других. Еще более очевидно, что безумие не может коснуться
одной какой-нибудь мысли или чувства, без того чтобы вся психическая жизнь в
корне своем не была им затронута. Представления и наклонности человека не
имеют своего самостоятельного существования; они не составляют также и
маленьких субстанций, Духовных атомов, которые, сцепляясь, образовали бы ум
человека. Они служат только для внешнего выражения общего состояния
сознательных центров, они истекают из них и являются их выразителями; поэтому
они не могут принимать болезненного характера без того, чтобы общее состояние
не было само по себе повреждено. Но если умственные повреждения не могут локализоваться,
то и не может быть мономании в собственном смысле этого слова. Повреждения,
по-видимому, местного происхождения, носящие в зависимости от этого то или иное
название, всегда являются результатом более обширной пертурбации; они на самом
деле не самостоятельные болезни, а частичные и второстепенные проявления более
общих болезней. Если не существует мономании вообще, то не существует и мономании
самоубийства, а поэтому самоубийство не может быть определенным видом
сумасшествия. III Остается предположение, что самоубийство есть
известный момент сумасшествия; если оно само по себе не есть особый вид
сумасшествия, то нет такой формы душевных болезней, в которой оно не могло бы
проявиться; оно становится в таком случае эпизодическим болезненным припадком,
но довольно часто встречающимся. Можно ли из этих повторяющихся случаев
вывести заключение, что самоубийство немыслимо в здоровом состоянии и что оно
есть известный признак психического заболевания? Такое заключение было бы очень поспешным, так
как среди поступков психически больных людей есть такие, которые им только
свойственны и которые могут считаться для них характерными; но есть и такие,
которые, наоборот, у них одинаковы со здоровыми людьми, хотя у сумасшедших они
и получают особую окраску. Рассуждая a priori, нет никаких данных для того, чтобы помещать
самоубийство в первую из этих категорий. Конечно, психиатры утверждают, что
большинство самоубийц, которых они наблюдали, являли все признаки умственного
расстройства, но этого показания недостаточно для разрешения вопроса. Подобные
наблюдения слишком поверхностны, тем более что из такого совершенно
специального опыта нельзя вывести никакого общего закона. Самоубийцы, наблюдаемые
психиатрами, были, конечно, душевнобольными людьми, но они не могут служить
бесспорным доказательством приводимой здесь гипотезы, особенно при наличии
большого числа самоубийц, которых эти психиатры не наблюдали, и особенно принимая
во внимание численный перевес последних. Единственный правильный метод состоит в том,
чтобы классифицировать самоубийства, совершенные умалишенными согласно их
существенным особенностям, и, таким образом, установить главные типы
самоубийств в состоянии психического расстройства и произвести точное
изыскание, действительно ли все случаи добровольной смерти подходят под эту
рубрику. Иначе говоря, для того чтобы узнать, есть ли самоубийство акт,
исключительно присущий сумасшедшим, надо определить те формы, которые оно
принимает при умственном расстройстве, и решить потом вопрос, ему ли одному оно
свойственно. Специалистами по этому вопросу сделано очень мало в отношении
классификации самоубийств сумасшедших, но тем не менее можно считать, что
следующие четыре типа содержат наиболее яркие виды. Основные черты этой
классификации мы заимствуем у Jousset и
Могеаи de Tours. I.
Маниакальное самоубийство. Этот вид
самоубийства присущ людям, страдающим галлюцинациями или бредовыми идеями.
Больной убивает себя для того, чтобы избежать воображаемой опасности или
позора, или действует, как бы повинуясь таинственному приказанию, полученному
им свыше и т. д. Но мотивы и формы развития этого вида самоубийства отражают
общий характер той болезни, от которой они проистекают, т. е. той или иной
мании. Отличительной чертой этого душевного заболевания является чрезвычайная
общая подвижность. Самые разнообразные и противоречивые чувства и мысли
сменяют одна Другую в мозгу маньяка с необыкновенной быстротой. Последний
находится поэтому как бы в постоянном вихре чередующихся настроений. Едва
успеет фиксироваться одна полоса сознания, как она уже заслоняется Другой; то
же можно сказать и о причинах, вызывающих самоубийства маньяков; они рождаются
и исчезают, превращаясь из одних в другие с изумительной быстротой. Внезапно
появляется галлюцинация или бредовое состояние, которые побуждают
маньяка лишить себя жизни; они влекут за собой попытку самоубийства. Через
несколько мгновений положение вещей изменяется, и если попытка оканчивается
неудачей, то по крайней мере в данный момент маньяк ее не возобновляет, а если
и возвращается к ней позднее, то в силу какого-нибудь другого мотива. Самое
незначительное событие может привести к самым внезапным метаморфозам. Один
подобный больной, желая покончить с собой, бросился в реку, большую часть года
не особенно глубокую. Он принужден был искать достаточно глубокого места для
того, чтобы утопиться, пока его не заметил таможенный солдат. Угадав его
намерение, он прицелился и пригрозил ему, что будет стрелять, если тот не
выйдет из воды. Тотчас же наш больной вылезает из воды, идет домой и уже не
думает более о самоубийстве. П. Самоубийство
меланхоликов. Этот вид самоубийства встречается у людей, находящихся в
состоянии высшего упадка духа, глубочайшей скорби; в таком состоянии человек
не может вполне здраво определить свои отношения к окружающим его лицам и
предметам. Его не привлекают никакие удовольствия, все рисуется ему в черном
свете, жизнь представляется утомительной и безрадостной. Ввиду того что такое
состояние не прекращается ни на минуту, у больного начинает просыпаться
неотступная мысль о самоубийстве; мысль эта крепко фиксируется в его мозгу, и
определяющие ее общие мотивы остаются неизвестными. Одна молодая девушка, дочь
вполне здоровых родителей, проведшая детство в деревне, должна была лет в 14
уехать в город, для того чтобы продолжать свое образование. С этого момента ее
охватывает невыразимая тоска; она начинает стремиться к одиночеству, и скоро
в ней просыпается ничем не победимое желание умереть. «Целыми часами она сидит
неподвижно с опущенными глазами, сгорбившись, в позе и настроении человека,
предчувствующего что-то зловещее; у нее созревает твердое решение утопиться, и
она ищет для этого наиболее уединенного места с тем, чтобы никто не мог спасти
ее». Тем не менее, прекрасно сознавая, что ее поступок будет преступлением,
она на некоторое время откладывает его выполнение. Через год мысль о
самоубийстве с большей силой охватывает ее, и она на протяжении небольшого
количества времени делает несколько неудачных попыток покончить с собой. ', Часто на фоне общего отчаяния появляются галлюцинации
и бредовые идеи, непосредственно влекущие больного к самоубийству, но в них
нет той подвижности, которая замечается у только что рассмотренного нами типа
маньяков. Напротив, идеи эти вполне определенны и неподвижны, как и общее
состояние духа, из которого они проистекают. Боязнь, мучающая больного, упреки,
которые он себе делает, несчастья, которые он себе рисует, всегда одни и те же.
Если этот вид самоубийства определяется воображаемыми причинами, как и в
предыдущем случае, то мысль о нем отличается своим хроническим характером и
потому неотвязчиво стоит в мозгу человека. Больные, принадлежащие к этой
категории, спокойно обдумывают все детали своего плана; в достижении своей цели
они проявляют даже невероятное постоянство и иногда удивительную хитрость.
Постоянная неустойчивость мысли маньяка очень мало похожа на эту последовательность
меланхолика. У одного можно наблюдать только преходящие вспышки, не
обусловленные длительными причинами, у другого, напротив, постоянное
настроение, тесно связанное с самым характером больного. III.
Самоубийство одержимых навязчивыми
идеями. В этом состоянии самоубийство не обусловливается никакими мотивами,
ни реальными, ни воображаемыми, а только навязчивой мыслью о смерти, которая
без всякой видимой причины всесильно владеет умом больного. Он одержим желанием
покончить с собой, хотя прекрасно знает, что у него нет к этому никакого
разумного повода. Это инстинктивное желание не подчиняется никаким размышлениям
и рассуждениям, подобно тем безудержным потребностям воровать, убивать,
поджигать, которые раньше пытались истолковать как особые виды мономании. Так
как больной отдает себе отчет в нелепости своего желания, то он пробует вначале
бороться с ним, но все время, пока воля противится этому стремлению, больной
грустен, подавлен, его грудь сжимает тоска, которая с каждым Днем усиливается.
В силу этой особенности данному виду самоубийства дают иногда название
«самоубийство от тоски» (suicide anxieux). Это
состояние было превосходно описано однажды одним больным психиатру Brierre de Boisomont. «Я служу в одной торговой
фирме и удовлетворительно исполняю возложенные на меня обязанности, но действую
все время, как автомат, и обращенные ко мне слова звучат в моих ушах так, как
если бы они раздавались в пустом пространстве. Меня бесконечно мучает ни на
минуту не покидающая меня мысль о самоубийстве. Целый год я уже нахожусь в
таком состоянии; вначале оно было выражено лишь неясно, а теперь,
приблизительно в течение двух месяцев, оно не оставляет меня ни на минуту, хотя у меня нет никакого повода желать
смерти. Физически я здоров, никто в моей семье не был подвержен подобному
душевному недугу, я не потерпел никаких потерь, жалованья моего вполне
достаточно для того, чтобы доставлять себе свойственные моему возрасту
развлечения». Но едва больной прекратил борьбу с самим собой и решил убить
себя, тревога его кончилась и к нему вернулось спокойствие. Если попытка самоубийства
оканчивается неудачей, то этого оказывается достаточно для того, чтобы больной
на время успокоился; можно сказать, что у него проходит само желание лишить
себя жизни. IV.
Автоматическое или импульсивное
самоубийство. Этот вид самоубийства так же мало мотивирован, как и
предыдущий; ни в действительности, ни в воображении больного для него нет
никакого основания. Разница между ним и предыдущим видом заключается в том, что
вместо того, чтобы быть результатом навязчивой идеи, которая более или менее
долгое время преследует больного и лишь постепенно овладевает его волей, этот
вид самоубийства проистекает от внезапного и непобедимого импульса. Мысль в
одно мгновение созревает до конца и вызывает самоубийство или по крайней мере
толкает больного на ряд предварительных действий. Эта внезапность решения
напоминает нам то, что мы раньше видели при той или иной мании; но самоубийство
маниакальное всегда имеет хотя и неразумное, но все же основание. Здесь же,
наоборот, мысль о самоубийстве зарождается внезапно и совершенно
автоматически, без наличности какого-нибудь предварительного сознательного решения,
ведет к роковой развязке. Вид ножа, прогулка но краю пропасти и т.д. мгновенно
порождают мысль о самоубийстве, и выполнение ее так стремительно, что больные
часто совершенно не осознают того, что произошло. «Человек,— говорит Brierre,— спокойно разговаривает с друзьями; вдруг он
внезапно перескакивает через барьер и бросается в воду. Его тотчас же
вытаскивают и спрашивают о мотивах его поступка. Он отвечает, что сам не знает
о них и что он действовал под влиянием силы, управлявшей им помимо его воли».
«Самое удивительное,— говорит другой больной,— что я совершенно не могу
вспомнить, каким образом я взобрался на окно и какая мысль была у меня тогда в
голове; я совершенно не хотел убивать себя, по крайней мере в данный момент я
не могу вспомнить, чтобы у меня было такое желание». При более слабой степени
болезни люди чувствуют приближение припадка, и им удается избежать
непобедимого очарования орудия смерти, если они не оглядываясь бегут от него. В общем, все случаи самоубийства среди душевнобольных
лишены всякого мотива, или определяются совершенно вымышленными мотивами.
Громадное количество добровольных смертей не могут быть отнесены ни к той, ни
к другой категории; большинство из них имеют мотивы, не лишенные реального
основания; поэтому нельзя, не злоупотребляя словами, считать каждого
самоубийцу сумасшедшим. Из всех характеризованных нами случаев самоубийства
наиболее трудно, по-видимому, отличить от самоубийств, наблюдаемых среди
здоровых людей, самоубийство меланхоликов; очень часто вполне нормальный
человек, кончающий с собой, находится в крайне подавленном и угнетенном
состоянии, как и человек, страдающий болезненной меланхолией. Но все же между
ними всегда существует основное различие; состояние духа первого и вытекающий
из этого состояния поступок имеют некоторую объективную причину, тогда как у
второго самоубийство не стоит ни в какой связи с внешними обстоятельствами. В
общем, самоубийства психически ненормальных людей отличаются от остальных
точно так же, как иллюзия и галлюцинации отличаются от нормальных восприятий и
как автоматические импульсы — от вполне сознательных поступков. Возможен,
конечно, непрерывный переход от одних к другим, но если бы это было достаточной
причиной для того, чтобы отождествлять их, то пришлось бы вообще устранить
различие между здоровьем и болезнью, ибо вторая — только видоизменение
первого. Если бы даже и удалось
установить, что средние люди никогда не лишают себя жизни и что решающиеся на
самоубийство представляют собой некоторую аномалию, то все же это не давало бы
нам права смотреть на сумасшествие как на непременное условие самоубийства;
сумасшедший не есть просто человек, несколько иначе думающий и поступающий,
чем обыкновенная средняя масса, поэтому тесно связать самоубийство с сумасшествием
можно только в том случае, если произвольно ограничить значение слов. «Тот,
кто, внимая только голосу благородства и великодушия, подвергает себя
заведомой опасности или же неминуемой смерти и добровольно жертвует жизнью во
имя закона, веры или спасения своей родины, не может называться
самоубийцей»,— восклицает Esquirol и приводит примеры Дешия, Асса и т. д. Falret точно
так же отказывается считать самоубийцами Курция, Кодра и Аристодема; подобным
же образом Bourdin исключает из понятия самоубийства все случаи
добровольной смерти, не только вызванные твердостью в вере или в политических
убеждениях, но даже экзальтацией чувства. Но мы знаем, что природа
побудительных причин, непосредственно определяющих собой самоубийство,
такова, что они не могут ни служить для него определением, ни провести границу
между самоубийством и несамоубийством. Все случаи смерти, являющиеся
результатом поступка самого пострадавшего лица, действовавшего с полным
сознанием этого результата, представляют, независимо от своей цели, слишком
существенное сходство для того, чтобы их можно было распределить по различным
родам; при самых разнообразных мотивах они могут считаться только
разновидностями одного и того же рода; кроме того, чтобы установить подобное
различие, нужен другой какой-нибудь критерий, а не преследуемая жертвой цель,
которая всегда более или менее проблематична. Таким образом, мы можем по
крайней мере установить группу самоубийств, в которых отсутствует элемент
сумасшествия. Но если уже исключениям открыть свободный вход, то трудно бывает
потом закрыть его, потому что между смертями, внушенными исключительным
великодушием, и смертями, вызванными чувствами менее возвышенными, не
существует резкой границы; переход от одних к другим совершается без всякого
видимого скачка. И если первые из этих случаев называть самоубийством,
то почему бы не квалифицировать таким же образом и вторые. Итак, мы установили,
что есть громадное количество случаев самоубийства без всякой примеси сумасшествия;
их можно распознавать по двоякому признаку: во-первых, они вполне обдуманны,
во-вторых, представления, из которых слагается мышление подобных субъектов, не
являются галлюцинациями в чистом виде. Из всего сказанного ясно, что этот так
часто поднимающийся и волнующий вопрос может быть разрешен без вмешательства
проблемы свободы. Для того чтобы узнать, все ли самоубийцы — сумасшедшие, мы
не спрашивали себя, свободно ли они действуют; мы основывали свое мнение
исключительно на эмпирических признаках, которые представляют для нашего
наблюдения различные виды добровольной смерти. IV Самоубийство умалишенных не
обнимает собой всех случаев; это только известная разновидность, и по этому
психопатические состояния, характеризующие психическое расстройство, не могут
служить показателем наклонности к самоубийству вообще. Но между душевной
болезнью и полным равновесием интеллекта есть целый ряд промежуточных ступеней:
это—различного вида аномалии, объединяющиеся обыкновенно под общим названием
неврастении. Мы должны теперь исследовать, не играют ли они значительной роли,
при отсутствии сумасшествия, в генезисе того явления, которое нас интересует.
Этот вопрос вытекает из самого существования самоубийства душевнобольных
людей. В самом деле, если глубокого извращения нервной системы достаточно для
того, чтобы в полной мере породить самоубийство, то меньшее потрясение должно
оказать в более слабой степени вполне однородное влияние. Неврастения
представляет собой род зачаточного сумасшествия, и поэтому в отдельных случаях
она должна иметь одинаковые с ним последствия. Неврастения имеет гораздо более
широкое распространение, чем душевные болезни, и число жертв ее неуклонно
возрастает; поэтому вполне возможно, что общая сумма аномалий, известных под
именем неврастении, является одним из факторов, от которых зависит процент
самоубийств. Вполне понятно, конечно, что
неврастения предрасполагает к самоубийству, так как неврастеники по своему
темпераменту как бы предназначены к страданию. Известно, что страдание в общем
вытекает из чрезмерного потрясения нервной системы; слишком сильная нервная
волна бывает чаще всего очень болезненной. Но это максимальное напряжение
нервной системы, за пределом которого начинается страдание, изменяется в
зависимости от индивида; предел этот выше у людей с более крепкими нервами и
ниже — у людей слабых; таким образом, у последних полоса страдания начинается
скорее, чем у первых. Каждое получаемое впечатление дает неврастенику повод к
дурному расположению духа; каждое движение вызывает усталость, нервы его, как
и поверхность кожи, раздражаются при малейшем прикосновении. Все отправления
физических функций, совершающиеся обыкновенно у здоровых людей совершенно
спокойно, являются для него по большей части источником болезненных ощущений.
Правда, что в противовес этому полоса наслаждений начинается у таких индивидов
также гораздо ниже, потому что чрезмерная чувствительность ослабевшей нервной
системы делает ее восприимчивой к такому возбуждению, которое ничем не
отозвалось бы на нормальном организме. Незначительное событие может явиться
для подобного субъекта источником безграничного удовольствия. Итак,
по-видимому, то, что неврастеник теряет в одном отношении, он возмещает в
другом и благодаря этой компенсации не менее приспособлен для всякой борьбы,
чем все прочие люди. На самом же деле это совершенно не так, и слабость
неврастеника постоянно сказывается в жизни, так как обычные впечатления и
ощущения, многократно повторяющиеся в жизни среднего человека, всегда обладают
достаточной силой. Поэтому у неврастеника жизнь никогда не бывает уравновешенной.
Конечно, если ему удается уйти из этой жизни, создать себе обстановку, куда
внешний шум долетал бы только издалека, то он тем самым достигает менее
мучительного для себя существования. Именно поэтому мы часто видим, как такие
люди покидают свет, доставляющий им так много страдания, и ищут уединения. Но
если такой человек должен, в силу сложившихся обстоятельств, жить среди
общества и не может сохранить от наносимых им ударов свою
болезненно-чувствительную натуру, то он испытывает гораздо больше горя, чем
радости. Подобные организмы представляют собой прекрасную почву для мыслей о
самоубийстве. Это не единственная причина к
тому, что жизнь неврастеника складывается для него так тяжело. В силу
чрезвычайной чувствительности нервной системы мысли и чувства его находятся в
полной неуравновешенности; каждое самое легкое впечатление находит в его душе
ненормально сильный отзвук; его духовный мир ежеминутно потрясается до самых
своих глубин, и под влиянием этих непрекращающихся внешних толчков ум его не
может найти себе точки опоры и находится в непрерывном процессе
преобразования. Но психика может укрепиться лишь в том случае, если пережитый
опыт производит на нее прочное впечатление, а не рассеивается и не уничтожается
постоянными резкими переворотами. Жизнь в устойчивой и постоянной среде
возможна только в том случае, если отправления живого существа в такой же
степени постоянны и устойчивы. Ибо жить — это значит реагировать на все внешние
события, приспособиться к ним известным образом, а такая гармония отношений
может быть только делом времени и привычки; достигнуть ее можно только ощупью
через целый ряд поколений; она должна в известной своей части сделаться наследственной,
и весь этот накопленный опыт не может быть повторен сызнова в любой момент,
когда надо начинать действовать. Если бы, наоборот, все приходилось повторять
каждый раз сначала, то эта гармония не могла бы быть полностью такой, какой
она должна быть. Подобная устойчивость не только необходима нам для наших
отношений с физическим миром, но также и с социальной средой. В обществе с
вполне установившейся организацией существование индивида возможно только в том
случае, если умственное и моральное строение его в равной степени определилось.
Именно этой-то устойчивости и недостает неврастенику. Благодаря тому состоянию
неуравновешенности, в котором он находится, обстоятельства застают его
зачастую врасплох; не будучи подготовлен к тому, чтобы реагировать на них
надлежащим образом, он должен каждый раз заново измышлять для себя
правила поведения; из этой необходимости рождается хорошо известное пристрастие
неврастеника ко всему новому. Но когда встает вопрос о приспособлении к
какому-нибудь традиционному условию, его импровизированным комбинациям
приходится отступать перед теми, которые уже освящены многолетним опытом,
потому что иначе он в огромном большинстве случаев потерпел бы неудачу. Мы видим, таким образом, что, чем
большей определенностью обладает известная социальная система, тем тяжелее в
ней себя чувствует такой малоуравновешенный человек, как неврастеник. Вполне
вероятно поэтому, что подобный психологический тип всего чаще встречается
среди самоубийц. Остается только установить, какое влияние это чисто
индивидуальное условие оказывает на общее количество добровольных смертей.
Достаточно ли этого условия при благоприятных стечениях обстоятельств для того,
чтобы натолкнуть человека на мысль о самоубийстве, или же неврастения оказывает
еще какое-нибудь влияние, кроме того, что делает индивидов более восприимчивыми
к действию внешних сил, которые только и могут быть определяющими причинами
данного явления? Для того чтобы непосредственно решить этот вопрос, надо было
бы сравнить колебания процента самоубийств и неврастении; к несчастью,
последняя еще не вполне доступна для статистики, но с помощью одного
искусственного приема мы можем преодолеть эту трудность. Сумасшествие является
только усиленной формой нервного вырождения, и поэтому, не рискуя впасть в
грубую ошибку, можно сказать, что число дегенератов изменяется так же, как и
число сумасшедших, и поэтому вместо первых можно рассматривать вторых. Поступая
так, мы будем еще иметь то преимущество, что можно будет вообще установить то
соотношение, которое наблюдается между процентом самоубийств и общей суммой
умственных аномалий всякого рода. Один факт может сообщить им
больше значения, чем следует; а именно самоубийство, равно как и сумасшествие,
сильнее распространено в городе, чем в деревне. Поэтому начинает казаться, что
случаи самоубийства учащаются и уменьшаются в зависимости от процента
сумасшествий, и получается впечатление прямого соотношения между этими двумя
явлениями. Но этот параллелизм не является показателем действительно
существующей причинной связи; он может быть простым совпадением. Гипотеза эта
тем более допустима, что социальные причины, от которых зависит самоубийство,
как мы увидим далее, сами тесно связаны с городской цивилизацией и наиболее
сильно дают себя чувствовать в больших центрах. Для того чтобы измерить то
влияние, которое психопатическое состояние может оказывать на самоубийство,
надо исключить те случаи, когда это состояние изменяется параллельно
социальным условиям того же явления; когда эти два факта действуют в одном и
том же направлении, в конечном результате трудно определить долю влияния,
оказываемого каждым из них. Производить наблюдение над ними надо исключительно
в тех случаях, когда они находятся в полном противодействии друг другу; только
когда между ними образуется известный конфликт, можно установить, кому из двух
принадлежит решающее значение. Если умственное расстройство играет ту
существенную роль, которую ему иногда приписывают, то оно должно проявить свое
присутствие характерным образом даже в том случае, когда социальные условия
стремятся нейтрализовать его; и наоборот, эти условия не могли бы проявить
себя, если бы индивидуальные силы действовали в обратном смысле. Следующие
факты указывают на то, что правилом является совершенно обратная зависимость. 1) Путем статистических данных
доказано, что в домах умалишенных число женщин незначительно превышает число
мужчин; взаимоотношение варьирует в зависимости от данной страны, но
обыкновенно на 54 или 55 умалишенных женщин приходится 46—45 мужчин. Кох собрал результаты переписи
умалишенных, сделанной в одиннадцати различных государствах. На 166675
умалишенных обоего пола приходится 78584 мужчины и 88091 женщина, т.е. 1,18
мужчины и 1,30 женщины на 1000 жителей обоего пола. Мауг в свою очередь
пришел к аналогичным результатам. Правда, иногда спрашивали себя, не происходит
ли этот излишек умалишенных женщин оттого, что смертность сумасшедших мужского
пола больше смертности сумасшедших женского пола. Известно, что во Франции на
100 умерших сумасшедших приходится около 55 мужчин. Итак, большее число случаев
сумасшествий среди женщин, полученное при переписи в тот или иной момент, не
является еще доказательством того, что женщина предрасположена к сумасшествию
больше, чем мужчина; оно, быть может, указывает только на то, что и в этом
случае, как во многих других, женщин умирает меньше, чем мужчин. Тем не менее
остается несомненным тот факт, что среди наличного контингента сумасшедших
женщин больше, чем мужчин; и если— что вполне законно — от числа умалишенных
умозаключать к числу нервно расстроенных, то нельзя не признать, что всегда
существует большее число неврастеников женского пола, чем мужского. Поэтому
если бы между процентом самоубийств и неврастенией была действительно
какая-нибудь причинная связь, то женщины должны были бы чаще, чем мужчины, лишать
себя жизни или же по крайней мере одинаково часто. Даже принимая во внимание
меньшую смертность среди женщин и исправляя в этом смысле указания переписи,
все, что можно заключить отсюда,— это то, что у них почти одинаковое с
мужчинами предрасположение к сумасшествию; в самом деле, меньший процент их
смертности и численное преобладание их во всех переписях умалишенных почти
компенсируются. Между тем в действительности наклонность к добровольной
смерти у женщин не только не выше, но гораздо ниже, чем у мужчин, и потому
самоубийство по существу своему — чисто мужское явление. На одну лишающую себя
жизни женщину приходится в среднем 4 мужчин. У каждого пола есть своя вполне
определенная наклонность к самоубийству, которая есть величина постоянная для
всех социальных классов. Но интенсивность этого предрасположения отнюдь не варьирует
параллельно вариациям психопатического фактора независимо от того, исчисляют
ли его влияние по количеству ежегодно вновь зарегистрированных случаев или по
числу людей, записанных в данный момент. Данные показывают, что
сумасшествие наблюдается чаще у евреев, чем у людей других вероисповеданий;
можно было бы на этом основании предполагать, что в тех же пропорциях находятся
у них все другие ненормальности нервной системы; но оказывается, что, наоборот,
предрасположение к самоубийству у евреев очень слабо. Мы увидим ниже, что
еврейство — это как раз та религия, в рамках которой склонность к самоубийству
имеет наименьшую величину (кн. I,
гл. II). Следовательно,
в данном случае процент самоубийств колеблется в обратном отношении к
психопатическому состоянию и отнюдь не является его продуктом. Конечно,
основываясь только на этом факте, нельзя вывести заключения, что мозговая и
нервная болезнь могут служить предохранительным средством против самоубийства,
но очевидно, эти болезни могут служить для него очень неточным определением,
если процент самоубийства может упасть в тот момент, когда они достигают
наивысшей степени своего развития. Если сравнивать только католиков
и протестантов, то эта обратная пропорциональность не будет носить общего
характера, но все же она очень часто наблюдается. Предрасположение к
сумасшествию у католиков оказывается ниже, чем у протестантов, только в 4 случаях
из 12, и то разница между ними очень незначительна. Первые везде без всякого
исключения лишают себя жизни реже, чем вторые. 2) Предрасположение к
самоубийству правильно увеличивается начиная от детского возраста вплоть до
глубокой старости. Если иногда оно понижается после 70 или 80 лет, то
уменьшение это очень незначительно; в этот период жизни оно все-таки в два или
в три раза сильнее, чем в период зрелости. Наоборот, в зрелом возрасте случаи
сумасшествия встречаются наиболее часто. Максимальная опасность заболевания
наблюдается около 30 лет, позднее она уменьшается, а к старости в большинстве
случаев наблюдается в наиболее слабой степени. Такой антагонизм был бы необъясним,
если бы причины, заставляющие колебаться процент самоубийств и вызывающие
умственное расстройство, не были бы совершенно разнородного происхождения. Если сравнить процент самоубийств
в каждом возрасте не с относительной частотой новых случаев сумасшествия на
протяжении того же самого периода, а с той пропорцией, которую по отношению ко
всему населению образует наличный состав сумасшедших, то полное отсутствие
параллелизма между этими двумя явлениями будет не менее очевидно. По отношению
к общей массе населения число умалишенных особенно велико в возрасте 35 лет;
пропорция остается той же вплоть до 60 лет и затем быстро уменьшается.
Она достигает minimuma тогда, когда процент самоубийств достигает maximuma, нельзя
установить никакого правильного соотношения между колебаниями того и другого
явления. 3) Если сравнить различные
общества с двоякой точки зрения — сумасшествия и самоубийства, то точно так же
нельзя найти связи между колебаниями этих двух явлений. Правда, статистика
умственного расстройства сделана недостаточно точно, для того, чтобы все эти
сравнения между народами обладали бесспорной достоверностью, но тем не менее
замечательно, что сведения, заимствуемые нами у двух различных авторов, дают
явно согласные результаты. Итак, в странах, где всего меньше
умалишенных, всего больше самоубийств; это особенно заметно в Саксонии. К этому
заключению уже раньше пришел доктор Leroy в своем прекрасном труде по
вопросу о самоубийстве в департаменте Seine-et-Marne. «Чаще всего,—
говорит он,— в местности, где наблюдается значительный процент душевных болезней,
встречается такой же процент самоубийств, но оба этих процента могут
рассматриваться совершенно отдельно. Я даже склонен думать, что наряду с теми
в достаточной мере счастливыми странами, где нет ни душевных болезней, ни
самоубийств, есть такие, где существуют только душевные болезни. В других
местностях можно наблюдать обратное исключение». Правда, Морселли пришел к
несколько другим результатам. Но это произошло потому, что он смешал под общим
названием душевнобольных сумасшедших в собственном смысле этого слова и
идиотов, тогда как это два совершенно различных вида болезни, особенно с точки
зрения влияния, которое они могут иметь на самоубийство. Идиотизм не только не
предрасполагает к самоубийству, но предохраняет от него; идиотов гораздо
больше в деревне, чем в городе, тогда как случаи самоубийства там гораздо реже.
Поэтому очень важно строго различать такие противоположные по своим
последствиям состояния, когда ставишь себе целью определить, какое влияние
оказывают различные невропатические потрясения на процент добровольных
смертей. Но даже если смешать их воедино, то невозможно создать никакого
правильного параллелизма между распространенностью душевной болезни и
самоубийством. Если даже, считая бесспорными цифры, данные Мор-селли,
классифицировать главнейшие страны Европы в пять последовательных групп,
согласно числу находящихся в них душевнобольных (занося под одну рубрику и
сумасшедших, и идиотов), и если заняться потом вопросом, как велико в каждой из
этих групп среднее число самоубийств, то получится следующая таблица:
Можно сказать вообще, что там, где много сумасшедших
и идиотов, там много и самоубийств, и наоборот. Но между этими двумя скалами
нет точного соответствия, доказывающего наличность определенной причинной
связи между этими двумя явлениями. Во второй группе должно было бы быть меньше
самоубийств, чем в первой, а на самом деле в ней самоубийств больше; в пятой
группе с этой же точки зрения самоубийств должно было бы быть меньше всего, а в
ней их больше, чем в четвертой и даже в третьей. Если статистику душевных
болезней Морселли заменить более полной статистикой Коха, к тому же и более
строгой, то отсутствие параллелизма будет еще более очевидным.
4) Наконец, так как считается, что за последнее
столетие процент сумасшествий и самоубийств регулярно увеличивается, то вполне
понятно искушение видеть в этом доказательство их взаимной обусловленности. Но
это предположение лишается всякой силы и убедительности, если мы примем во
внимание, что в обществах низшего порядка, где очень редко наблюдается
сумасшествие, самоубийство, наоборот, очень частое явление, как мы это увидим
впоследствии (кн. II,
гл. IV). Социальный
процент самоубийств не имеет никакой определенной связи ни с предрасположением
к сумасшествию, ни — поскольку об этом свидетельствуют индуктивные данные—с
предрасположением к различным видам неврастении. Если неврастения, как мы уже
указали выше, может предрасполагать к самоубийству, то она может и не иметь
такого последствия. Конечно, неврастеник почти неизбежно обречен на
страдание, если он слишком близко соприкасается с окружающей его жизнью, но он
имеет возможность удалиться от нее, для того чтобы вести исключительно
созерцательное существование. Если всевозможные конфликты и человеческие
страсти слишком шумны и грубы для его хрупкого организма, то в противовес
этому неврастеник как бы специально создан для того, чтобы вкушать тихие
радости умственной жизни. Его мускульная дряблость и чрезмерная чувствительность
делают его не способным к активному образу жизни и как бы приготавливают его к
умственной работе, которая в свою очередь требует приспособленных для этого
органов. Если неподвижная социальная среда только разбивает его природные инстинкты,
то, поскольку само общество подвижно и может существовать только при условии
прогресса, постольку он может играть полезную роль, так как неврастеник
составляет par excellence орудие прогресса. Именно потому, что он не склоняет головы перед
традицией и ярмом привычки, он представляет собой чрезвычайно плодотворный
источник всего нового. Но так как в самых культурных обществах интеллектуальные
функции более всего развиты и более всего необходимы и так как в то же время,
в силу чрезвычайной сложности этих обществ, непременным условием их
существования является непрерывное изменение, то в тот самый момент,
когда число неврастеников становится особенно значительным, существование их
получает свое практическое оправдание. Они не относятся к числу людей, по
существу своему внесоциальных, которые устраняют самих себя, потому что не
могут жить в той среде, к которой они прикреплены. Нужно, чтобы еще целый ряд
других причин присоединился к свойственному им органическому состоянию, чтобы
характер их принял такое направление и развился именно в этом смысле. Сама по
себе неврастения есть предрасположение очень общего характера, не влекущее за
собой никаких определенных поступков, но по ходу обстоятельств она может
принимать самые разнообразные формы. Неврастения — это почва, на которой
могут зародиться самые различные наклонности в зависимости от того, как
оплодотворят ее социальные условия. У старого, уже сбитого с пути народа, на
почве неврастении легко пустят корни отвращение к жизни, инертность и
меланхолия со всеми печальными, свойственными им последствиями. Наоборот, в
молодом еще обществе на этой почве по преимуществу разовьются пылкий идеализм,
великодушный прозелитизм, деятельная самоотверженность. Если во времена
всеобщего упадка мы видим увеличение числа неврастеников, то мы не должны
забывать, что их же руками создаются новые государства; именно из среды
неврастеников появляются все великие преобразователи. При такой двойственной
роли неврастения не может объяснить столь определенного социального факта, как
тот или иной процент самоубийств*. * Очень ярким примером этой двойственности являются сходство и контраст, наблюдаемые между французской и русской литературой. Та симпатия, которой во Франции пользуется русская литература, уже доказывает, что в ней очень много общих черт с французской. На самом деле, у писателей обеих наций чувствуется болезненная утонченность нервной системы, известное отсутствие умственного и морального равновесия. Но это общее психобиологическое состояние производит совершенно различные социальные последствия. Тогда как русская литература чрезмерно идеалистична, тогда как свойственная ей меланхоличность основана на деятельном сочувствии к страданиям человечества и является здоровой тоской, возбуждающей веру и призывающей к деятельности, тоска французской литературы выражает только чувство глубочайшего отчаяния и отражает беспокойное состояние упадка. Вот каким образом одно и то же органическое состояние может служить почти противоположным социальным целям. Существует одно психопатическое состояние которое
за последнее время вошло в привычку обвинять почти во всех несчастьях нашего
цивилизованного общества. Это — алкоголизм. Справедливо или нет, но его
влиянию приписывают прогрессивное развитие сумасшествия, пауперизма и
преступности. Имеет или нет алкоголизм какое-нибудь влияние на развитие самоубийства?
A priori подобная
гипотеза кажется малоправдоподобной, потому что именно в наиболее культурных и
зажиточных классах самоубийство вырывает больше жертв, тогда как далеко не в
их среде алкоголизм имеет наибольшее распространение. Рассмотрим факты — и пусть они говорят сами за
себя. Если сравнить французскую карту самоубийств с картой преследований за
злоупотребление спиртными напитками, то мы увидим, что между ними нет почти
никакого соответствия. Для первой из них характерной чертой является то
обстоятельство, что самоубийства в особенности сосредоточены в двух центрах
Франции. Один расположен в Jle de France и простирается оттуда на восток, а другой занимает
побережье Средиземного моря от Марселя до Ниццы. Совершенно другое
распределение темных и светлых пятен мы видим на картах алкоголизма. Здесь
существуют три главных центра. Один — в Нормандии, а в особенности в
департаменте Нижней Сены; другой — в Финистере и вообще в бретонских
департаментах; третий занимает бассейн Роны и соседнюю с ним область.
Наоборот; процент самоубийств в местности, лежащей по течению Роны, не
поднимается выше среднего; в большинстве нормандских департаментов он ниже
среднего, и в Бретани самоубийство почти совершенно отсутствует. Таким
образом, географии этих двух явлений настолько различны, что совершенно
невозможно приписывать одному из них влияние на развитие другого. Мы придем к
тому же результату, если начнем сравнивать самоубийство не с проступками на
почве пьянства, а с нервными или душевными болезнями, порожденными
алкоголизмом. Сгруппировав французские департаменты в 8 классов по степени
значительности в них контингента самоубийц, мы старались найти в каждом из них
среднее число случаев сумасшествия алкоголического происхождения, основываясь
на цифровых данных доктора Lunier, и получили
следующие результаты:
Два вышеприведенных столбца совершенно не соответствуют
друг другу. Тогда как число самоубийств ушестеряется и поднимается даже выше,
пропорция сумасшествия на почве алкоголизма увеличивается едва на несколько
единиц, и то увеличение происходит нерегулярно; вторая группа возвышается над
третьей, пятая над шестой, седьмая над восьмой. Между тем если бы алкоголизм
влиял на процент самоубийств, как психопатическое состояние, то это влияние
могло бы выражаться только умственным расстройством. На первый взгляд кажется, что между количеством
потребленного алкоголя и склонностью к самоубийству— более тесное соотношение,
по крайней мере насколько это касается Франции. В самом деле, больше всего
потребляют алкоголя в северных департаментах, и в этих же местностях всего чаще
встречаются самоубийства. Но во-первых, пятна, обозначающие эти явления,
имеют на обеих картах несколько различную конфигурацию. Одно из них наиболее
густо в Нормандии и на севере Франции, бледнея по мере приближения к Парижу:
это пятно обозначает алкоголизм. Другое пятно, наоборот, всего темнее около
Сены и в соседних с нею департаментах; оно светлеет уже близ Нормандии и не
достигает севера. Первое темнеет по направлению к западу и простирается до
побережья океана; второе, наоборот, быстро исчезает, приближаясь к западу, как
бы остановленное границей, которую для него представляют департаменты J'Eure и J'Eu-re-et-Lour, затем оно значительно
усиливается по направлению к востоку. Мало того, темное пятно, имеющееся на
юге в департаменте Var и Benches de Rhone на
карте самоубийств, совершенно исчезает на карте алкоголизма. Наконец, даже в той мере, поскольку существует
совпадение, оно недостаточно убедительно, так как оно в большинстве случаев
совершенно случайно. Выйдя из пределов Франции и подвигаясь на север, мы видим
почти правильное увеличение потребляемого алкоголя без всякого возрастания
самоубийств. Тогда как во Франции в 1873 г. на одного человека в среднем
приходилось 2,84 литра алкоголя, в Бельгии количество алкоголя достигало в
1870 г. 8,56 литра, в Англии мы находим в 1870—1874 гг. 9,07 литра, в Голландии
(1870г.) —4, в Швеции (1870 г.)—10,34, в России (1856 г.) —10,69 и даже в
Петербурге (1855 г.)—до 20 литров. И в то же время, когда в соответствующие
эпохи во Франции насчитывалось 150 случаев самоубийства на 1000 000 жителей, в
Бельгии их было только 68, в Великобритании — 70, в Швеции — 85, а в России
очень немного. Даже в Петербурге от 1864—1868 гг. средний годовой процент не
превышал 68.8. Дания — единственное северное государство, где большое
количество самоубийств и потребление алкоголя совпадают (16,51 литра в 1845
г.). Если северные департаменты Франции отличаются тем, что совмещают
пристрастие к спиртным напиткам с наклонностью к самоубийству, то из этого не
надо заключать, что второе явление вытекает из первого и находит в нем себе
объяснение; совпадение это носит чисто случайный характер. На севере вообще
потребляют алкоголя значительно больше, потому что вина там мало и оно гораздо
дороже; кроме того, может быть, здесь более, чем в другом месте, нужно
специальное питание, для того чтобы поддерживать необходимую для организма
теплоту; с другой стороны, видно, что причины самоубийства особенно
сконцентрировались в этой части Франции. Сравнение различных частей Германии
подтверждает это заключение. Если перейти к деталям, то обнаружатся поразительные
контрасты; в провинции Познань меньше, чем где-либо в империи, наблюдаются
самоубийства (96,4 случая на 1000000), а здесь всего более употребление
алкоголя — 13 литров на человека; в Саксонии, где оно в 4 раза больше (348 на 1
000 000), алкоголя употребляют в 2 раза меньше; наконец, можно заметить, что
четвертая группа, где потребление алкоголя очень незначительно, почти всецело
состоит из южных государств. С другой стороны, если здесь меньше случаев
самоубийства, чем в остальной Германии, то это зависит от того, что население
в ней католическое или содержит в себе очень сильное католическое меньшинство. Следовательно, не существует ни одного психопатического состояния, которое бы имело с самоубийством постоянную и бесспорную связь. В данном обществе число самоубийств не зависит от числа находящихся в нем неврастеников и алкоголиков. Хотя дегенерация в различных своих формах образует вполне подходящую психологическую почву для развития тех причин, которые могут заставить человека решиться на самоубийство, но сама она не является одной из причин его. Можно допустить, что при идентичных обстоятельствах дегенерат лишает себя жизни легче, чем здоровый человек, но он лишает себя жизни не только в силу своего органического состояния. Потенциальная наклонность к самоубийству может преобразиться у него в действие только под влиянием иных факторов, разысканием которых нам и предстоит теперь заняться. ГЛАВА II. САМОУБИЙСТВО И НОРМАЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. РАСА. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬМожно предположить, что наклонность к
самоубийству заложена в самом строении индивида независимо от различных
аномальных его состояний, о которых мы говорили выше. Она может заключаться в
чисто психических явлениях, не будучи связана непременно с расстройством
нервной системы. Почему у человека не может явиться желания лишить себя жизни
без того, чтобы оно представляло собой мономанию, умственное расстройство или
неврастению? Это предположение может даже считаться вполне установленным, если,
как это было показано многими учеными, специально изучавшими вопрос о
самоубийстве, каждой расе свойствен особый процент самоубийств. Расы отличаются
друг от друга и определяются только органическо-психическими признаками. Если
процент самоубийств изменяется в зависимости от расы, то приходится признать,
что существует известное органическое предрасположение, с которым он тесно
связан. Но действительно ли существует эта связь? I В чем заключается понятие расы? Совершенно необходимо
дать ей точное определение, потому что не только обыденная терминология, но и
сами антропологи употребляют это слово в самом разнообразном смысле. Тем не
менее различные предположенные формулы можно обыкновенно свести к двум основным
понятиям: раса характеризуется по сходству или по общему происхождению. Каждая
школа кладет в основание первое или второе определение. Иногда под расой подразумевается агрегат индивидов,
которые имеют, без сомнения, общие черты, но которые, сверх того, обязаны этим
сходством признаков тому, что происходят от одного источника. Когда под влиянием
какой-либо причины у одного или нескольких индивидов одного и того же
поколения появляется изменение, отличающее их от всего остального вида, и
когда это изменение, вместо того чтобы исчезнуть со следующим поколением,
прогрессирует в силу наследственности, то это обстоятельство дает начало расе.
В этом смысле de Quatrefages и мог определить понятие
расы как собрание подобных друг другу индивидов, принадлежащих к одному и тому
же виду и передающих путем полового преемства все особенности первоначального
изменения. Согласно такому определению, раса отличалась бы от вида тем, что
начальные пары, от которых произошли различные расы одного и того же вида, в
свою очередь произошли от одной только пары. Подобное понятие расы было бы
строго ограничено, и она определялась бы путем специального, положившего ей
начало признака общего происхождения. К несчастью, если придерживаться этой формулы,
то существование и сфера влияния расы не могут быть установлены без помощи
исторических и этнографических изысканий, результаты которых всегда
сомнительны, и потому на все вопросы относительно происхождения ее приходится
отвечать крайне гадательно. К тому же не вполне достоверно, что существующие в
настоящий момент человеческие расы соответствуют вышеприведенному определению,
так как вследствие различных скрещиваний по всевозможным направлениям каждое из
существующих подразделений нашего вида происходит от самых различных
первоначальных источников. Если мы не имеем другого критерия, то будет очень
трудно определить, какое отношение различные расы имеют к самоубийству, так
как нельзя сказать с достоверностью, где они начинаются и где кончаются. К тому
же концепция de Quatrefages грешит тем, что
предрешает проблему, на которую наука далеко еще не нашла своего ответа. Эта
концепция предполагает, что характеристические свойства расы образовались
путем эволюции, что они укрепились в организме только под влиянием наследственности.
Это мнение оспаривается целой антропологической школой, носящей название
полигенисти-ческой. Согласно мнению этой школы, человечество не происходит
целиком из одной-единственной семьи, как учит библейская традиция, но появилось
или одновременно, или постепенно в различных местах земного шара. Так как
первоначальные роды образовались независимо один от другого и в различной
среде, то они были дифференцированы с самого начала, и поэтому каждый из них
являлся особой расой. Следовательно, главнейшие расы образовались не путем
прогрессирующего укрепления приобретенных изменений, но создались с самого
начала и сразу. Поскольку решение этого важного вопроса остается открытым,
будет неправильно с методологической точки зрения вводить в определение расы
идею общего происхождения или родства. Гораздо лучше определять ее по
непосредственным признакам, которые доступны всякому наблюдателю, и не
затрагивать пока вопроса о ее происхождении. В таком случае остается только два
характерных признака, выделяющих расу. Прежде всего раса состоит из группы
индивидов, характеризующихся своим сходством; но то же самое применимо к людям
одной веры или одной профессии. Поэтому, чтобы довершить характеристику расы,
необходимо прибавить, что сходство это наследственно. Таким путем образуется
особый тип, который независимо от своего первоначального происхождения обыкновенно
передается по наследству. В этом смысле должно понимать слова Pricharda, который
говорит: «Под именем расы подразумевается каждая группа индивидов, имеющих
более или менее общие признаки, передаваемые по наследству; вопрос же о
происхождении этих признаков в данный момент лучше оставить в стороне». Вгоса
высказывается по этому вопросу почти в тех же выражениях. «Что же касается
до разновидностей, существующих в человеческом роде,— говорит он,— то они
получили название рас, что дает повод думать о более или менее прямом родстве
индивидов одной и той же разновидности, но не решает ни в утвердительном, ни в
отрицательном смысле вопроса о родстве между индивидами разных разновидностей». Поставленная в этой форме
проблема о возникновении рас становится разрешимой, но самое слово берется
здесь в настолько широком смысле, что делается совершенно неопределенным; оно
обозначает уже не только наиболее общие разветвления человеческого вида,
естественные и относительно неизменные подразделения человечества, но типы
всякого рода. С этой точки зрения каждая группа народов, члены которой в силу
тесных отношений, соединявших их на протяжении веков, являют частью уже
наследственное сходство, могла бы составлять расу. В этом смысле говорят
иногда о латинской, англосаксонской расе и т. д. Можно даже сказать, что
только в такой форме расы могут быть рассматриваемы как живые и конкретные факторы
исторического развития. В общей смеси народов, в горниле истории, великие,
основные и первоначальные расы настолько смешались между собою, что почти
совершенно потеряли свою индивидуальность: «Если они не исчезли совершенно с
лица земли, то от них остались только очень смутные очертания, отдельные
штрихи, которые соединяются между собою в настолько несовершенной форме, что
уже не образуют больше никакой характерной физиономии. Тип человека, который
устанавливается лишь путем некоторых, часто неопределенных указаний на величину
его роста и форму его черепа, не имеет ни достаточной достоверности, ни
определенности, для того чтобы ему можно было приписывать большое влияние на
ход социальных явлений. Более специальные и менее обширные типы, называемые
расой в широком смысле этого слова, более рельефны и неизбежно играют более важную
историческую роль, потому что они в большей степени могут считаться продуктом
истории, чем природы. Но им не хватает объективного определения. Например, мы
очень плохо знаем, какими определенными чертами латинская раса отличается от
саксонской; каждый высказывает по этому поводу свое мнение без всякого
научного основания. Эти предварительные соображения
предупреждают нас, что социолог должен быть очень осторожен, принимаясь за
решение вопроса о том, какое влияние имеет раса на то или иное социальное
явление. Для того чтобы решить такую проблему, надо в точности знать, какие
существуют расы и чем они отличаются одна от другой. Такая осторожность тем
более необходима, что этот пробел антропологии находится в прямой зависимости
от того, что самое слово «раса» не заключает в себе ничего определенного. С
одной стороны, первоначальные расы представляют теперь только
палеонтологический интерес, а с другой— более тесные группировки индивидов,
носящие в настоящее время это название, являются, собственно, народами
или союзами народов, более братьями и по цивилизации, чем по крови. Раса,
понимаемая таким образом, почти совершенно смешивается с нацией. II Допустим, однако, что в Европе существует
несколько основных типов, наиболее общие признаки которых нам в главных чертах
известны и между которыми распределяются разные народности. Условимся называть
их расами. Морселли различает четыре расы: германский тип, разновидностями которого
он считает немцев, скандинавов, англосаксов, фламандцев; тип кельт-романский (бельгийцы, французы, итальянцы, испанцы); типы славянский и урало-алтайский. Мы упоминаем последний только для памяти, так как
он насчитывает в Европе слишком мало представителей для того, чтобы можно было
определить, какое отношение он имеет к самоубийству; к нему можно отнести
только венгерцев, финляндцев и жителей некоторых русских областей. Остальные
три расы классифицируются следующим образом в зависимости от понижения их наклонности
к самоубийству: вначале стоят народы германской расы, потом кельто-романской
и, наконец, славяне. Но можно ли действительно эти различия отнести
на счет расы? Гипотеза эта была бы правдоподобна, если бы каждая
группа народов, объединенных под одним общим названием, имела приблизительно
одинаковую наклонность к самоубийству. Но в действительности между народами
одной и той же расы наблюдается в этом смысле большое различие. Тогда как у
славян вообще слабая степень наклонности к самоубийству, Моравия и Богемия
среди них составляют исключение. В первой насчитывается 158 случаев на миллион
жителей, во второй — 136, тогда как в Крайне всего 46, в Кроации — 30 и в
Далмации —14. То же самое мы видим у народов кельто-романской расы. Франция
отличается высоким процентом — 150 на 1 000 000 жителей, в то время как в
Италии мы находим только 30 случаев, а в Испании — еще меньше. Очень трудно согласиться
с Морселли в том отношении, что такое сильное колебание процента может
объясняться большим количеством германских элементов во Франции, чем в других
латинских странах. Если принять во внимание, что страны, выделяющиеся в смысле
высокого процента самоубийств среди родственных им национальностей, в то же
время и наиболее цивилизованные, то является вполне законным задать себе
вопрос: не различный ли уровень цивилизации является тем моментом, который в
действительности определяет собой разницу между обществами и так называемыми
этническими группами? Разница в склонности к самоубийству у германских народов
еще более велика. Из четырех принадлежащих к этой расе групп в трех наклонность
еще слабее, чем у славянских и латинских народов. Это фламандцы, у которых на 1
000 000 насчитывается только 50 случаев самоубийства, англосаксы, у которых
самоубийц только 70 на 1 000 000; что же касается скандинавов, и в частности
Дании, то в ней насчитывается высокое число— 268 самоубийств, но в Норвегии их
только 74 и в Швеции — 84. Поэтому невозможно приписывать датский процент самоубийств
всей расе, если в двух других странах, где эта раса существует в наиболее
чистом виде, мы имеем противоположные результаты. В общем, из всех германских
народов только немцы очень сильно предрасположены к самоубийству. Поэтому если
мы будем употреблять термины в их строгом смысле, то в данном случае может
идти речь не о расе, а о национальности. Тем не менее, поскольку не доказано
отсутствие немецкого типа, который был бы отчасти наследственным, можно
распространить понятие этого слова до самых крайних пределов и сказать, что у
народов немецкой расы предрасположение к самоубийству развито больше, чем у
большинства людей, принадлежащих к кельто-романскому, славянскому и даже англосаксонскому
и скандинавскому обществам. Но это все, что можно вывести из предыдущих
цифровых данных. Как бы то ни было, мы имеем здесь единственный случай, когда
можно действительно подозревать влияние этнических условий. Далее мы увидим,
что раса на самом деле в этом случае не играет никакой роли. Для того чтобы иметь право объяснять расовой
причиной склонность немцев к самоубийству, недостаточно одного констатирования
того факта, что самоубийство распространено в Германии, так как эта
распространенность может быть отнесена на счет природы немецкой цивилизации.
Но надо было бы доказать, что эта наклонность неразрывно связана с наследственным
состоянием немецкого организма, что это перманентная черта немецкого типа, остающаяся
даже и в изменившейся социальной среде. Только при этом условии мы можем видеть
в склонности к самоубийству результат влияния расы. Посмотрим теперь, что
происходит вне Германии в том случае, если немец входит в жизнь других народов
или приобщается к различным культурам; сохраняет ли он свое печальное
первенство в наклонности к самоубийству. В Австрии мы имеем готовый ответ на
этот вопрос. Немцы, смотря по провинциям, смешались в различных пропорциях с
населением, обладающим совсем иными этническими качествами. Посмотрим,
увеличило ли присутствие немцев процент самоубийств в Австрии. Для каждой
провинции существует как средний процент самоубийств на протяжении пятилетия
(1872— 1877 гг.), так и численное значение немецкого элемента. По характеру
употребляемого в каждой данной местности наречия мы определяем долю участия той
или иной расы; хотя этот критерий не обладает абсолютной точностью, но он
наиболее достоверен из всех существующих. По данным, заимствуемым нами у самого
Морсел-ли, невозможно заметить ни малейших следов немецкого влияния, на
процент самоубийств. Богемия, Моравия и Буковина, где немцев насчитывается от
37 до 9%, имеют в среднем 140 случаев самоубийства — выше Штирии, Каринтии и
Силезии (125), где немцы составляют значительное большинство. Точно так же эти
последние страны, несмотря на значительное меньшинство славян, превышают своей
наклонностью к самоубийству три единственные провинции, где население всецело
немецкое: это Верхняя Австрия, Зальцбург и трансальпийский Тироль. Правда, в
Нижней Австрии насчитывается число самоубийств больше, чем в других областях,
но это превышение не может быть отнесено на счет немецкого элемента, так как
число немцев значительно больше в Верхней Австрии, Зальцбурге и трансальпийском
Тироле, где количество самоубийств в два, даже в три раза меньше. Настоящая причина этой высокой цифры самоубийств
состоит в том, что главным городом Нижней Австрии является Вена, которая, как и
все столицы, насчитывает ежегодно огромное число самоубийств; в 1876 г. там на
миллион жителей приходится 320 случаев; поэтому не надо относить на счет расы
то, что присуще вообще большим городам. Наоборот, если на побережье, в Крайне и
Далмации, самоубийств значительно меньше, то это вовсе не зависит от
присутствия в них меньшего количества немцев, так как в цизаль-пийском Тироле и
Галиции, где немцев не больше, в два и в пять раз больше случаев добровольной
смерти. Если сосчитать средний процент самоубийств для всех восьми австрийских
провинций с немецким меньшинством, то получится цифра 86, т. е. то же
количество, что в трансальпийском Тироле, где население чисто немецкое, и
больше, чем в Каринтии и Шти-рии, где немцев очень много. Итак, когда немцы и
славяне живут в одной и той же социальной среде, и их наклонность к
самоубийству оказывается одинаково сильной. Следовательно, разница,
наблюдаемая между ними при других обстоятельствах, не зависит от расы. То же самое можно сказать об отмеченной нами
разнице между немецкой и латинской расами. В Швейцарии мы имеем в наличности
обе эти расы; пятнадцать швейцарских кантонов целиком или частью — немецкие;
среднее число самоубийств в них достигло в 1876 г. цифры 186; 5 кантонов по
преимуществу французские: Валлис, Фрибург, Невшатель, Женева. В них среднее
число самоубийств 255. Из них всего меньше в кантоне Валлис—10 самоубийств на 1
миллион жителей, но в нем в то же время насчитывается всего больше немцев: 319
на тысячу жителей. Наоборот, Невшатель, Женева и Во, где население почти
целиком латинское, имеют 486, 321 и 371 случаев самоубийства. Для того чтобы дать этническому элементу лучше
проявить свое влияние, если только оно вообще существует, мы старались
отделить религиозный фактор, который мог бы его замаскировать. Для этого мы
сравнили немецкие и французские кантоны с одним и тем же вероисповеданием.
Полученные результаты явились только подтверждением предыдущих. Швейцарские кантоны
С одной стороны, нет
существенного различия между двумя расами, с другой — французы имеют перевес.
Факты согласно указывают на то, что если немцы чаще других народов лишают себя
жизни, то это зависит не от крови, которая течет в их жилах, а от цивилизации,
в кругу которой они воспитаны. Тем не менее среди доказательств, приводимых
Морселли для подкрепления влияния расы, есть одно, которое на первый взгляд
может показаться более убедительным. Французский народ образовался от смешения
двух главных рас: кельтов и кимвров, которые с самого начала отличались друг от
друга своим ростом. Со времен Юлия Цезаря кимвры были известны своим высоким
станом. Брока именно по росту жителей мог определить, каким образом эти две
расы распределились на поверхности французской территории, и нашел, что
население кельтского происхождения сосредоточилось преимущественно на юге по
течению Луары, а кимвры—на севере. Эта этнографическая картина имеет некоторое
сходство с картиной самоубийств; ведь мы знаем, что самоубийства сконцентрировались
на севере Франции и, наоборот, в минимальной степени наблюдаются в центре и на
юге. Но Морселли пошел еще дальше; он считал установленным, что число
самоубийств у французов правильно колеблется в зависимости от распределения
этнических элементов; чтобы иллюстрировать это свое положение, он разделил
департаменты Франции на 6 групп, высчитал для каждой из них среднее число
самоубийств, а также среднее число избавленных от военной службы в силу
недостаточно высокого роста, что является косвенным мерилом среднего роста
населения, ибо эта средняя повышается по мере того, как уменьшается число увольняемых.
Оказывается, что эти два ряда средних чисел изменяются обратно пропорционально:
чем больше число самоубийств, тем меньше уволенных за недостаточно высокий
рост, т. е. тем больше средняя высота роста. Такое точное соответствие, если
бы оно действительно было установлено, можно было бы объяснить, конечно,
только влиянием расы. Но тот способ, которым пришел Морселли к этому
результату, не позволяет считать последний прочно установленным. В самом деле,
он взял за основу шесть этнических групп, классифицированных Брока по степеням
предполагаемой чистоты двух рас — кельтской и кимврской. Как бы высоко мы ни
ставили авторитет этого ученого, мы должны все же признать, что данный
этнографический вопрос слишком сложен, оставляет еще слишком много места
различным толкованиям и противоположным гипотезам, для того чтобы
классификацию, предложенную Брока, можно было рассматривать как безупречную.
Стоит только обратить внимание на то, какое значительное количество более или
менее недоказуемых исторических догадок он должен выдвинуть, чтобы обосновать
свою теорию. И если его исследования с полной очевидностью показали, что во
Франции имеются два отчетливо различающихся друг от друга антропологических
типа, то существование тех промежуточных, воплощающих в себе различные оттенки
типов, которые он также счел возможным признать, представляется гораздо более
сомнительным *. * Существование двух областных
делений, из которых одно состоит из 15 северных департаментов, где преобладает
население с высоким ростом (39 забракованных на 1000 новобранцев), другое же —
из 24 департаментов центра и запада, где преобладает маленький рост (от 98 до
130 случаев освобождения от службы на 1000), кажется бесспорным. Но разве эта
разница есть продукт расы? Решить такой вопрос не так-то легко. Если
припомнить, что в течение 30 лет средняя высота роста населения во Франции
значительно изменилась, что число забракованных поэтому с 92,80 в 1831 г.
понизилось в 1860 г. до 59,40 на 1000, то с полным правом можно спросить себя,
может ли такой переменчивый признак быть верным критерием для того, чтобы
узнать, существуют ли относительно неизменные типы, называемые расой? Но во
всяком случае, тот способ, при помощи которого у Брока группы, промежуточные
между этими двумя крайними типами, установлены, поименованы и отнесены к
кимврскому или другому источнику, дает нам еще больше права сомневаться. Доводы
морфологического порядка здесь неприменимы. Антропология может установить,
какова средняя высота роста в данной области, но не может определить, от каких
скрещиваний она зависит. Поэтому промежуточные высоты могут зависеть как от
того, что кельты смешались с более крупными расами, так и от того, что кимвры
смешались с людьми меньшего роста, чем они сами. Географическое распределение
не может тоже играть большой роли, потому что смешанные группы понемногу
встречаются повсюду: на северо-западе (Нормандия, Нижняя Луара), на юго-западе
(Аквитания), на юге (Романская провинция), на востоке (Лотарингия) и так
далее. Остаются аргументы чисто исторического характера, но они по природе
своей очень гадательны. История не знает, когда, при каких условиях и в каких
пропорциях произошли различные нашествия и помеси народов. Каким же образом
может она помочь нам определить степень влияния, которое имеют эти события на
органическое строение народов? Если, оставив в стороне эту систематическую,
но, может быть, слишком искусственную классификацию, довольствоваться тем, что
сгруппировать департаменты согласно среднему росту, наблюдаемому в каждом из
них, т. е. по среднему числу освобожденных малорослых новобранцев, и если
против каждого из этих средних чисел поставить среднее число самоубийств, то
получатся результаты, сильно отличающиеся от цифровых данных Морселли. Процент самоубийств увеличивается неравномерно,
вне всякой прямой зависимости от предполагаемых кимврских элементов, так как
первая группа, где население обладает наиболее высоким ростом, насчитывает
менее самоубийств, чем вторая, и незначительно больше, чем третья; точно так же
три последние стоят почти на одном уровне, несмотря на различную высоту роста.
Если что-нибудь вытекает из этих цифровых данных, то только то, что с точки
зрения самоубийств, как и с точки зрения высоты роста, Францию можно разделить
на две части — северную, где самоубийства случаются часто и рост высокий, и
центральную, где рост ниже и где меньше лишают себя жизни, но без всякого
точного параллелизма между этими явлениями. Выражаясь иначе, две областные
массы населения, замеченные нами на этнографической карте, встречаются и на
карте самоубийств; но совпадение это только приблизительно и совершенно не
носит общего характера. В деталях изменений этих двух сравниваемых явлений
совпадения не наблюдаются. Сведенное к своим настоящим размерам, рассматриваемое
совпадение уже не является решительным доказательством в пользу этнических
элементов; оно представляет только любопытный факт, которого еще недостаточно
для того, чтобы установить общий закон. Оно может зависеть от случайного
сочетания вполне независимых друг от друга факторов. Во всяком случае, для
того чтобы это совпадение можно было приписывать действию расы, эта гипотеза
должна быть подкреплена и доказана еще и другими фактами. Мы видим между тем
нечто совершенно обратное; нижеследующие факты только опровергают эту
гипотезу. 1) Более чем странно, что такой коллективный и
бесспорный в своей реальности тип, как немецкий, имеющий такое сильное
предрасположение к самоубийству, перестает проявлять его тотчас же по изменении
социальных условий; или что наполовину проблематический кельтский, или
древнебельгийский тип, от которого остались лишь одни бледные следы, имеет и
по настоящее время сильное влияние на величину этой наклонности. Слишком велика
разница между крайней общностью расовых признаков, оставивших после себя память
в недрах данной расы, и сложной специфичностью изучаемой нами наклонности. 2) Мы увидим ниже, что случаи самоубийства были
очень многочисленны у древних кельтов (см.: кн. II, гл. IV). Поэтому если в данный момент они
стали реже у народа, как предполагают, кельтского происхождения, то это
происходит не в силу природного свойства расы, а по причине изменившихся
внешних обстоятельств. 3) Кельты и кимвры не являются первоначальными
и чистыми расами; они, как говорит Брока, смешались с другими народами
«посредством кровных связей, языка и верований». И те, и другие являются только
разновидностью той расы белокурых, высоких людей, которые или путем массового
нашествия, или путем повторных набегов рассеялись мало-помалу по всей Европе.
Вся разница между ними с точки зрения этнографической заключается в том, что
кельты, смешавшись с темно-русым и малорослым южным населением, более
отклонились от общего типа. Следовательно, если большая склонность кимвров к
самоубийству этнического происхождения, то она вытекает из того
обстоятельства, что у них первоначальная раса претерпела меньше изменений. Но
тогда следовало бы ожидать, что вне Франции процент самоубийств будет
увеличиваться по мере того, как будут резче выступать отличительные признаки
этой расы. Но ничего подобного нет на самом деле. Наиболее высоким ростом в
Европе обладает население Норвегии (1,72 метра); родина этого типа, всего
вероятнее, север, в частности же побережье Балтийского моря: именно в этих
местах он считается лучше всего сохранившимся. И тем не менее на Скандинавском
полуострове процент самоубийств невысок; говорят, что та же самая раса лучше
сохранилась в 1Ьлландии, Бельгии и Англии, чем во Франции, и тем не менее в
этой последней стране гораздо больше случаев самоубийства, чем в трех первых. В конце концов географическое распределение
самоубийств во Франции может быть объяснено, не прибегая к таинственной силе
расы. Известно, что Франция может быть разделена в интеллектуальном и
этнографическом отношении на две части, еще не вполне слившиеся между собой.
Население центра и юга сохранило свой природный характер, свойственный ему
образ жизни и потому остается чуждым идеям и нравам северян. Но на севере
возник очаг французской цивилизации, которая и до сих пор по существу своему
остается северной. С другой стороны, так как она содержит в себе важнейшие
причины, толкающие население Франции, как мы увидим ниже, к самоубийству, то
географические границы сферы ее влияния суть также и границы зоны, наиболее
обильной самоубийствами. Поэтому если население севера лишает себя жизни чаще,
чем население юга, то это происходит вовсе не в силу его предрасположения на
почве этнического темперамента; это происходит потому, что социальные причины
самоубийства сконцентрировались сильнее на севере по течению Луары, чем на юге. Что же касается вопроса о том, как произошел и
каким образом сохранился этот духовный дуализм Франции, то ответить на него
должна история, так как этнографических наблюдений недостаточно для его
решения. Разнообразие рас не могло быть единственной причиной этого, так как
самые различные расы могут смешаться и совершенно потеряться одна в другой.
Между северным и южным типами в действительности нет такого антагонизма, чтобы
века совместной жизни оказались бессильными победить его. Житель Лотарингии
меньше отличается от нормандца, чем провансалец от обитателя Jle-de-France. Но
благодаря историческим причинам провинциальный дух и местные традиции
сохранили свою силу больше на юге, тогда как на севере необходимость
встречаться лицом к лицу с общим неприятелем, более тесная солидарность
интересов, более частое соприкосновение заставили население слиться и
смешаться между собой. Именно благодаря этой духовной нивелировке, оживляющей
общение людей и обмен идеями, исторические судьбы избрали эту область
хранительницей наивысшей культуры. III Теория, считающая расу важным фактором предрасположения
к самоубийству, кроме того, implicite допускает,
что предрасположение это наследственно, так как только при этом условии ему
можно приписать этнический характер. Но доказана ли наследственность самоубийства?
Вопрос этот тем более заслуживает рассмотрения, что помимо своей связи с предыдущим
он сам по себе представляет значительный интерес. Если бы действительно было
установлено, что предрасположение к самоубийству передается от поколения к
поколению, то пришлось бы признать, что оно тесно связано с определенным
органическим строением. Необходимо, однако, уже с самого начала
условиться относительно смысла терминов. Когда говорят про самоубийство, что
оно наследственно, подразумевают ли под этим просто, что дети самоубийц,
унаследовав характер своих родителей, при аналогичных обстоятельствах склонны
поступать так же, как и они? При такой постановке вопроса ничего нельзя
возразить против этого положения, но тогда оно лишается для нас всякой ценности,
так как в этом случае не самоубийство наследственно, а преемственно передается
некоторый общий темперамент, который может в подходящем случае предрасположить
индивида, но не заставить его непременно покончить с собой и который поэтому не
может служить достаточным объяснением поступков данного субъекта. Мы видели,
что индивидуальное строение, которое способствует в высшей степени появлению
неврастении в различных ее формах, не имеет никакого отношения к изменениям
процента самоубийств. Совершенно в другом смысле психологи часто говорили о
наследственности: они говорили о наклонности лишать себя жизни, которая
непосредственно и целиком переходит от родителей к детям и зарождает в уме
индивида мысль о самоубийстве чисто автоматически. В этом случае наклонность
к самоубийству должна была бы действовать в некотором роде психомеханически,
не без известной самостоятельности, и очень немногим отличалась бы от
мономании, причем ей, вполне вероятно, должен был бы соответствовать не менее
определенный физиологический механизм. Следовательно, она коренным образом
зависела бы от индивидуальных причин. Подтверждают ли наблюдения существование подобной
наследственности? Разумеется, часто можно наблюдать, что самоубийство
регулярно и трагично повторяется в одном и том же семействе. Яркий случай
приводит Gall. «Господин Г., богатый человек,
умирая, оставил семерым своим сыновьям наследство в 2 000 000 франков; шестеро
из них остались в Париже или в его окрестностях и сберегли оставленную каждому
из них часть наследства, а некоторые даже увеличили ее. Все они были вполне
счастливы и обладали цветущим здоровьем. Тем не менее в течение 40 лет все семь
братьев лишили себя жизни». Эскироль знал одного негоцианта, отца шестерых
детей, из которых четверо лишили себя жизни, а пятый сделал несколько попыток к
самоубийству. В других случаях мы видим, что отцы, дети и внуки одержимы одним
и тем же стремлением. Но пример физиологии должен научить нас не делать
преждевременных заключений в вопросе о наследственности, который требует
большой осмотрительности. Очень часто встречаются случаи, когда туберкулез
уничтожает последовательно несколько поколений, и тем не менее ученые все-таки
колеблются признать его наследственным и даже склоняются, по-видимому, к
противоположному мнению. Это повторение одной и той же болезни в кругу одного
и того же семейства может зависеть не от наследственности самого туберкулеза, а
от общего предрасположения, делающего данный организм особенно благоприятной
почвой для появления и размножения в нем бацилл данного недуга. В этом случае
передается не сама болезнь, а благоприятная для ее развития почва. Для того
чтобы иметь право категорически отвергать это последнее объяснение, надо хотя
бы установить, что бацилла Коха часто встречается в самом человеческом
зародыше; но поскольку такое наблюдение не было сделано, сомнение в наследственной
передаче чахотки вполне законно. С той же осторожностью надо относиться и к
интересующей нас проблеме; для разрешения ее недостаточно перечисления
нескольких благоприятных в смысле наследственности фактов — нужно, чтобы эти
факты были в достаточном количестве, чтобы они не могли быть отнесены на счет
случайного стечения обстоятельств, чтобы они не допускали никакого другого объяснения
и не были опровергнуты никакими другими фактами. Отвечают ли они этому тройному условию? Правда,
подобные факты не считаются редкими, но этого недостаточно для того, чтобы
вывести заключение о наследственной природе самоубийства. Надо в особенности
определить, по отношению к какой доле общего числа самоубийств они оказываются
верными. Если бы для относительно высокой доли общей цифры самоубийств было
доказано существование самоубийств у предков, то с полным основанием
можно было бы утверждать, что между этими двумя фактами существует причинная
связь, что самоубийство имеет свойство передаваться по наследству. Поскольку
такого доказательства в нашем распоряжении не имеется, всегда будет основание
спросить себя, не вызываются ли приводимые факты случайными комбинациями различных
причин. Наблюдения и сравнения, которые одни могли бы решить этот вопрос,
никогда не производились в достаточно широком размере; обыкновенно довольствуются
тем, что передают некоторое количество интересных анекдотов. Те немногие
сведения по этому вопросу, которые мы имеем, недостаточно убедительны и даже
отчасти противоречивы. На 39 умалишенных с более или менее ясно выраженной
наклонностью к самоубийству, которых имел возможность наблюдать доктор Lays в своей лечебнице и по отношению
к которым ему удалось собрать достаточно полные сведения, он нашел только
один случай, где эта наклонность уже встречалась раньше в семье больного. На
265 умалишенных Briere de Boismont нашел только 11 случаев, т. е. 4% больных, родители
которых покончили с собой. Пропорция, которую дает Cazauvieilh, гораздо
значительнее: у 13 индивидов из 60 он нашел прецеденты в прошлом поколении, что
составляет 28%. Согласно баварской статистике, единственной, которая отметила
влияние наследственности, на протяжении 1857—1866 гг. насчитывается до 13%
самоубийств наследственного характера. Как ни малодоказательны эти факты, если
истолковывать их с точки зрения гипотезы, принимающей существование
специальной наследственности самоубийства, однако гипотеза эта приобретает некоторый
авторитет, раз невозможно подыскать никакого другого объяснения. Но существуют
по меньшей мере две другие причины, которые могут вызвать тот же эффект,
особенно при своем сочетании. Во-первых, почти все наблюдения сделаны
психиатрами и, следовательно, над умалишенными. Психическое расстройство, может
быть, чаще всех /других болезней передается по наследству. Поэтому можно
спросить себя: наследственна ли сама наклонность к самоубийству или скорее умственное
расстройство, частым, но случайным симптомом которого является самоубийство.
Сомнение наше тем более основательно, что, по признанию всех делавших
наблюдение, случаи, благоприятные для гипотезы наследственности, встречались по
большей части—если не исключительно—именно среди самоубийц-умалишенных. Без
сомнения, при этих условиях наследственность играет важную роль, но здесь идет
речь не о наследственной наклонности к самоубийству; передается по наследству
умственное расстройство в его общем виде, нервный недуг, случайным и
сомнительным последствием которого является самоубийство. Здесь наследственность
распространяется на склонность к самоубийству не более чем на кровохарканье в
случаях наследственного туберкулеза. Если какой-нибудь несчастный, в семье
которого есть и умалишенные, и самоубийцы, убивает себя, то делает он это не
потому, что родственники его покончили с собой, а потому, что они были
сумасшедшими. Душевные болезни, передаваясь по наследству, трансформируются;
так, например, меланхолия в старшем поколении превращается у младшего в
хроническое безумие и инстинктивное сумасшествие; и поэтому может случиться,
что несколько членов одной и той же семьи кончают с собой и что все эти
самоубийства проистекают от различных видов безумия и принадлежат поэтому к
различным типам. Но одной этой причины
недостаточно для того, чтобы объяснить все факты, так как, с одной стороны, не
доказано, что самоубийство повторяется только в семействах, где есть
умалишенные, с другой—остается необъясненной та замечательная особенность, что
в некоторых из этих семейств самоубийство носит, по-видимому, заразительный
характер, хотя психическое расстройство не влечет за собой непременно такого
последствия. Не каждый сумасшедший стремится лишить себя жизни. Откуда же
происходит целая категория сумасшедших, стремящихся покончить с собой? Подобное
совпадение обстоятельств дает повод подозревать существование другого фактора,
сверх предыдущего; определить его можно, не прибегая к гипотезе
наследственности; достаточно одной заразительной силы примера, чтобы создать
этот новый фактор. Мы увидим в одной из
нижеследующих глав, что самоубийство очень заразительно. Эта способность заражаться
особенно ярко чувствуется у индивидов, структура которых делает их более
чувствительными ко всякому внушению вообще и к идее о самоубийстве в частности;
они не только склонны воспроизводить все то, что поражает их впечатлительность,
но в особенности заражаются поступком, к которому у них уже есть некоторое
предрасположение, и повторяют его. Это двойное условие имеется в наличности у
людей умалишенных или у простых неврастеников, родители которых покончили с
собой. Слабость нервной системы делает их восприимчивыми к гипнозу и в то же
самое время предрасполагает их спокойно относиться к мысли о смерти; поэтому
нет ничего удивительного, что воспоминание о трагической смерти своих близких
или зрелище ее становится для таких субъектов источником навязчивой идеи или
непреодолимого стремления к самоубийству. Это объяснение отнюдь не является
менее удовлетворительным, чем гипотеза наследственности; существует целый ряд
фактов, доступных только ему одному. Часто случается, что в семьях, где
наблюдаются повторные случаи самоубийства, они почти вызываются один другим;
они не только случаются в одном и том же возрасте, но происходят совершенно
одинаковым образом. Иногда предпочтение отдается повешению, в других случаях
прибегают к самоудушению газами или бросаются с возвышенного места. В одном
часто приводимом случае сходство простирается еще дальше. Одно и то же оружие
служило для всей семьи и на протяжении многих лет. В этих явлениях хотели
видеть еще одно доказательство существования наследственности. Но если
существуют серьезные причины, в силу которых нельзя делать из самоубийства
особой психологической сущности, то во сколько же раз труднее признать
существование особой наклонности лишать себя жизни посредством повешения или
пистолета. Разве эти факты не указывают скорее на то, как велика заразительная
сила примера, действующая на умы оставшихся в живых людей, родные которых уже
внесли кровавую страницу в историю своей семьи? С какой силой должно их
преследовать воспоминание об этой добровольной смерти, чтобы заставить решиться
повторить с поразительной точностью то, что было сделано их предшественниками! Предлагаемое нами объяснение
подтверждается еще тем, что многочисленные случаи, где не может быть и речи о
наследственности и где все зло происходит по вине заразительной силы примера,
являют те же самые признаки. Во время эпидемий, о которых будет говориться
ниже, обыкновенно наблюдается, что различные случаи самоубийств имеют между
собой самое поразительное сходство, можно сказать, являются копией один
другого. Всем известен рассказ о пятнадцати инвалидах, которые в 1772 г. один
за другим за короткое время повесились на одном и том же крюке в темном
коридоре; как только крюк был снят, эпидемия прекратилась. То же самое было в
булонском лагере: один солдат застрелился в часовой будке; через несколько дней
у него оказались последователи, которые покончили с собой в той же будке; как
только ее сожгли, эпидемия прекратилась. Во всех этих случаях преобладающее
влияние навязчивости идей очевидно, поскольку самоубийство прекращается, как
только исчезает материальный предмет, вызывающий эту идею. Поэтому если
самоубийства, явно вытекающие одно из другого, по-видимому, совершаются по
одинаковому образцу, то вполне законно будет приписать их именно этой причине,
тем более что она должна иметь свой maximum в тех семьях, о которых мы
выше говорили,— в семьях, где все способствует усилению действия этого
фактора. К тому же многие люди сами
чувствуют, что, поступая так же, как их родители, они поддаются заразительной
силе примера. Такой случай наблюдал Esqirol: «Самый младший брат, лет 26—27, впал в меланхолию и
бросился вниз с крыши дома; второй брат, который ухаживал за ним после этого
падения, обвинял себя в его смерти, несколько раз пытался покончить с собой и
через год умер от последствий длительного, многократного голодания; четвертый
брат, врач по профессии, два года тому назад с отчаянием уверявший меня, что и
ему не избежать этой участи, тоже лишает себя жизни». Могеаи приводит
следующий случай: один умалишенный, у которого брат и дядя с отцовской стороны
покончили жизнь самоубийством, мучился мыслью лишить себя жизни. Брат,
посещавший его в Шарантоне, пришел в отчаяние от тех ужасных мыслей, которые
внушал ему больной, и не мог отделаться от убеждения, что и он сам в конце
концов подпадет под их власть. Один больной сделал Brierre de Boismont следующее
признание: «До 53 лет я был совершенно здоров; у меня не было никакого горя,
характером я обладал довольно веселым, как вдруг три года тому назад на меня
стали находить мрачные мысли... в продолжение вот уже трех месяцев они
совершенно не дают мне покоя, и каждую минуту что-то толкает меня покончить с
собой. Я не скрою от вас, что мой брат лишил себя жизни 60 лет, но я никогда
серьезно не думал над этим обстоятельством, когда же я дожил до 56 лет, то
воспоминание об этом событии живо воскресло в моей памяти и теперь уже не
покидает меня». Но наиболее яркий факт передает нам Falret: одна молодая
девятнадцатилетняя девушка узнала, что «дядя ее с отцовской стороны лишил себя
жизни; это известие очень огорчило ее; она уже раньше слышала о наследственности
сумасшествия, и мысль о том, что и она может впасть в это ужасное состояние,
заполонила ее сознание... Она находилась в этом ужасном настроении, когда отец
ее также лишил себя жизни; с этих пор она твердо уверовала в то, что и ее самое
ждет наследственная смерть. Ее стала занимать только мысль о ее близком конце,
и она беспрестанно повторяла: «Я погибну так же, как погибли мой отец и дядя.
Кровь моя заражена безумием!» Она пыталась даже покончить с собой, но неудачно.
Человек, которого она считает своим отцом, не был им в действительности, и,
чтобы освободить ее от мучившего ее страха, мать ее решилась признаться ей во
всем и устроить ей свидание с ее настоящим отцом. Физическое сходство между
отцом и дочерью было так поразительно, что все сомнения больной тотчас же рассеялись;
с этой минуты она отказалась от всякой мысли о самоубийстве, к ней вернулась ее
веселость и быстро восстановилось ее здоровье». Таким образом, с одной стороны,
наиболее благоприятных для теории наследственности случаев самоубийства
недостаточно, чтобы доказать правильность этой теории, а с другой — они без
всякого труда находят себе иное объяснение. Более того: некоторые факты, обнаруженные
статистикой, значение которых, очевидно, ускользнуло от наблюдения психологов,
совершенно не согласуются с гипотезой наследственной передачи в точном смысле
этого слова. Факты эти следующие. 1) Если существует психоорганический
детерминизм наследственного происхождения, предрасполагающий людей к
самоубийству, то он должен почти одинаково влиять на оба пола. Так как
самоубийство само по себе не содержит в себе ничего сексуального, то нет
никаких данных к тому, чтобы зарождение наклонности к самоубийству больше
замечалось у мальчиков, чем у девочек. На самом деле мы знаем, что среди женщин
самоубийства встречаются редко и являются только небольшой частью числа
самоубийств среди мужчин. Этого не было бы, если бы наследственность обладала
приписываемой ей силой. На это могут возразить, что женщины, так же как и
мужчины, получают в наследство наклонность к самоубийству, но что эта
последняя постепенно нейтрализуется социальными условиями, в которых живут
женщины. Но что же можно думать о наследственности, раз в большинстве случаев
она не проявляется или ограничивается очень смутной возможностью, ничем даже не
доказуемой? 2) Исходя из наследственности
туберкулеза, Cruncher говорит следующее: «Вполне возможно признать существование
наследственности в случаях этого рода (речь идет о чахотке у трехмесячного
ребенка) — все подтверждает это предположение... Уже менее достоверно, что
туберкулез начался еще в утробе матери, раз он проявляется через 15—20 месяцев
после рождения и раз ничто не указывало раньше на тайное присутствие
туберкулеза... Что же можно сказать о туберкулезе, появляющемся через 15, 20,
30 лет после рождения? Предполагая даже, что известное заболевание существовало
с самого начала жизни, возникает вопрос, мог ли зародыш болезни сохраниться в
силе в течение такого длинного промежутка времени. Естественно ли обвинять во
всем эти ископаемые микробы вместо живых бацилл, которые человек встречает на
своем пути?» Действительно, для того чтобы иметь право утверждать, что данная
болезнь наследственна, при отсутствии решительного доказательства в пользу
того, что семя ее заложено еще в зародыше или наблюдается у новорожденного,
необходимо по крайней мере установить, что болезнь эта часто появляется у очень
маленьких детей. Вот почему в наследственности видят основную причину особого
вида безумия, которое проявляется с первых дней рождения и которое поэтому
носит название наследственного безумия. Кох указал даже, что в тех случаях,
когда сумасшествие не передается всецело по наследству, оно испытывает на себе
влияние наследственности; и предрасположение в этих случаях гораздо быстрее
действует, чем там, где не было известных прецедентов. Правда, приводят примеры
некоторых признаков, которые считаются наследственными, но проявляются только
в более или менее зрелом возрасте; таковы, например, борода у человека, рога у
животных и т. д. Но это опоздание только в определенных случаях может быть
объяснено гипотезой наследственности, а именно тогда, когда оно зависит от
органического состояния, которое не может быть создано иначе как путем
индивидуальной эволюции; например, во всем, что касается половых функций,
наследственность не может, очевидно, проявиться раньше половой зрелости. Но
если переданное свойство действительно в любом возрасте, то обнаружить себя
оно должно было бы сразу. Следовательно, чем больше ему нужно времени для
того, чтобы появиться на свет, тем скорее надо признать, что оно получает от
наследственности самое слабое поощрение. Но неизвестно, почему наклонность к самоубийству
должна быть более связана с одной фазой органического развития, чем с
какой-либо другой. Если она представляет собой определенный механизм, который
может передаваться в совершенно законченном виде, то она должна была бы начать
действовать с первых же лет жизни. На самом деле происходит
обратное. Самоубийство среди детей наблюдается чрезвычайно редко. Во Франции,
по Legoyt, на 1
миллион детей ниже 16-летнего возраста в течение 1861-1875 гг. приходится 4,3
случая на мальчиков и 1,8 — на девочек. В Италии, по Морсел-ли, цифры еще
меньше: они не поднимаются выше 1,25 для одного пола и 0,33 — для другого
(1866—1875 гг.), и такова пропорция почти во всех странах. Раньше 5-летнего возраста
самоубийств не бывает, да и в этом возрасте они совершенно исключительное явление;
к тому же еще не доказано, чтобы эти исключительные случаи объяснялись
наследственностью. Не надо забывать того, что ребенок тоже испытывает на себе
влияние социальных причин и что этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы
толкнуть ребенка на самоубийство. Факт этот доказывается тем, что самоубийство
у детей варьирует в зависимости от социальной обстановки, их окружающей; нигде
оно не замечается так часто, как в больших городах. Это вполне понятно, потому
что нигде социальная жизнь так рано не начинается для ребенка, как в городе,
что доказывается быстротой умственного развития у городского ребенка; раньше
по времени и полнее приобщенный к ходу нашей цивилизации, городской ребенок
скорее ощущает на себе ее последствия. В силу этих причин в наиболее культурных
странах самоубийства детей увеличиваются с ужасающей регулярностью. Но мало
того, что самоубийства встречаются вообще чрезвычайно редко у детей; только к
ста-рости они достигают своего апогея, а в промежутке, в зрелом
возрасте, число их регулярно увеличивается из года в год. С некоторыми изменениями
отношения эти почти одинаковы во всех странах. Швеция—единственная страна, где
максимум падает на промежуток между 40— 50 годами; везде в других странах
самоубийства достигают максимума в последний или предпоследний период жизни; и
везде, с очень небольшими исключениями, которые, может быть, зависят от ошибок
переписи, возрастание идет непрерывно вплоть до этого высшего предела.
Понижение наклонности к самоубийству, наблюдаемое в возрасте свыше 80 лет, не
носит абсолютного характера, и, во всяком случае, оно чрезвычайно слабо.
Контингент самоубийц в этом возрасте ниже того, который наблюдается у стариков
70 лет, но он все еще выше но сравнению с другими, во всяком случае, по
сравнению с большинством других возрастов. Каким образом после всего сказанного
можно приписывать наследственности наклонность, появляющуюся только у взрослых
и усиливающуюся с этого момента по мере дальнейшего хода человеческой жизни?
Как можно считать прирожденным заболевание, которое в детстве или
отсутствует, или совсем слабо и которое, все усиливаясь и развиваясь, достигает
своего maximum'а только
у стариков? Закон наследственности,
проявляющийся в определенном возрасте, не может быть применим в данном случае.
Он говорит, что при известных обстоятельствах жизни унаследованная наклонность
проявляется у потомков почти в том же возрасте, что и у предков; но это,
очевидно, не касается самоубийства, которое свыше 10 или 15 лет наблюдается во
всех возрастах без различия. Характерной чертой для
самоубийства является не то обстоятельство, что наклонность к нему проявляется
в определенном возрасте, но что она беспрерывно прогрессирует из года в год.
Эта непрерывная прогрессия доказывает, что причина, от которой она зависит, развивается
сама по мере того, как стареет человек. Наследственность этому условию не
удовлетворяет, так как по существу своему она должна быть тем, что она есть, с
того самого момента, как произошло оплодотворение. Можно ли сказать, что
наклонность к самоубийству уже существует в скрытом состоянии с самого дня
рождения, но проявляется только под влиянием других сил, обнаруживающихся
поздно и развивающихся прогрессивно? Ведь это значило бы признать, что
наследственное влияние сводится преимущественно к предрасположению очень
общего и неопределенного характера; в самом деле, если встреча его с другим
фактором до такой степени необходима, что оно только тогда начинает
действовать, когда присутствует этот фактор, и в той мере, в которой он
присутствует, то этот фактор и должен считаться настоящей причиной. Наконец, характер изменений числа
самоубийств по возрастам доказывает, что, во всяком случае, психоорганическое
состояние не может считаться определяющей причиной, так как все зависящее от
организма, подчиняясь ритму жизни, последовательно проходит через фазу
возрастания, затем остановки и, наконец, регрессии. Нет ни одного
биологического или психологического явления, прогрессирующего бесконечно: все,
дойдя до апогея своего развития, идут к упадку. Наоборот, наклонность к
самоубийству приходит к своей кульминационной точке только в самом преклонном
возрасте. Даже падение, отмечаемое довольно часто около 80 лет, помимо того что
оно очень незначительно и совсем не носит общего характера, имеет только
относительное значение, так как 90-летние старики лишают себя жизни не менее
часто, а иногда чаще, чем 70-летние. Не доказывает ли это обстоятельство, что
причина, заставляющая варьировать процент самоубийств, не может состоять в
прирожденном и неизменном импульсе, что ее надо искать в прогрессивном влиянии
социальной жизни? Оттого и наклонность к самоубийству появляется позднее или
раньше, в зависимости от того, когда человек вступает в жизнь, и увеличивается
по мере того, как индивид теснее связывается с обществом. Таким образом, мы
пришли к выводу предыдущей главы. Конечно, самоубийство возможно только в том
случае, если организация индивида не противится этому, но индивидуальное
состояние, которое для совершения самоубийства всего благоприятнее, состоит не
в определенной и автоматической наклонности (за исключением случаев
сумасшествия), но в смутной и общей способности, могущей принимать различные
формы, смотря по обстоятельствам; эта неопределенная общая наклонность позволяет
совершиться самоубийству, но не вызывает его с необходимостью, а
следовательно, не может служить ему объяснением. ГЛАВА III. САМОУБИЙСТВО И КОСМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫНо если индивидуальные
предрасположения сами по себе не являются определяющими причинами самоубийства,
они, быть может, способны оказать более значительное влияние в соединении с
известными космическими факторами. Ведь благоприятная материальная среда
вызывает иногда развитие болезней, которые без нее остались бы в зародыше; а
можно предположить, что она способна вызвать фактическое проявление той общей
и чисто потенциальной склонности к самоубийству, которая присуща известным
индивидам. В таком случае процент самоубийств нельзя уже было бы рассматривать
как социальное явление; будучи результатом сочетания определенных физических
причин и некоторого психоорганического состояния, он всецело или главным
образом свелся бы к явлениям психопатологического порядка. Правда, таким путем
было бы, конечно, очень трудно объяснить, почему каждая социальная группа
характеризуется вполне определенным процентом самоубийств, ведь космическая
среда не изменяется сколько-нибудь заметно при переходе от одной страны к
другой. Тем не менее один важный результат все же, по-видимому, может быть
здесь достигнут: могут быть объяснены по крайней мере некоторые колебания
относительного числа самоубийств без вмешательства социальных причин. Среди факторов этого рода только
двум приписывалось до сих пор влияние на число самоубийств, а именно климату
и температуре различных времен года. I Вот как распределяются самоубийства на карте Европы
в зависимости от широты места:
Как видим, минимум самоубийств приходится на юг и север Европы; в центре процент их наиболее высок; Морселли внес сюда еще больше точности, установив, что пространство, ограниченное 47° и 57° широты, с одной стороны, 20° и 40» долготы — с другой, является местом преимущественного развития самоубийств. Эта зона почти вполне совпадает с наиболее умеренной областью Европы. Следует ли видеть в этом совпадении результат климатических влияний? Морселли отвечает на этот вопрос утвердительно,
хотя и не без некоторого колебания. В самом деле, трудно усмотреть, в чем может
заключаться связь между умеренным климатом и склонностью к самоубийству; нужно
чрезвычайно строгое совпадение фактов, чтобы сделать подобного рода гипотезу
приемлемой. Между тем в действительности не наблюдается такого строго
определенного соотношения между самоубийством и тем или другим климатом;
несомненно, наоборот, что самоубийство процветало в самых различных климатах.
В настоящее время Италия сравнительно мало подвержена этому бедствию; но оно
было там чрезвычайно распространено во времена империи, когда Рим был столицей
цивилизованной Европы. Равным образом в известные эпохи оно достигало
значительного развития под жгучим небом Индии (см.: кн. II, гл. IV). Уже самые очертания этой зоны доказывают, что
климат не является причиной тех многочисленных убийств, которые в ней
совершаются. Пятно, образуемое ею на карте, состоит не из одной полосы, более
или менее ровной и одинаковой на всем своем протяжении, включающей в себя все
страны с одним и тем же климатом, но явно разбивается на два отдельных пятна:
одно, имеющее своим центром Ile-de-France и прилежащие департаменты,
другое — Саксонию и Пруссию. Таким образом, интересующая нас зона совпадает не
с какой-либо областью, строго определенной в климатическом отношении, а с
двумя главными очагами европейской цивилизации. Следовательно, именно в
характере этой цивилизации, в способе е распределения между различными
странами, а не в таинственных свойствах климата следует искать причины
неодинаковой наклонности народов к самоубийству. Подобным же образом может быть объяснен и другой
факт, который отметил уже Герри, а Морселли подтвердил новыми наблюдениями и
который, хотя и допускает известные исключения, тем не менее носит достаточно
общий характер. В странах, которые не входят в состав центральной зоны,
области, наиболее приближающиеся к ней как с севера, так и с юга, вместе с тем
наиболее обильны самоубийствами. Так, например, в Италии самоубийства особенно
распространены на севере, тогда как в Англии и Бельгии они преобладают на юге.
Нет, однако, никакого основания приписывать эти факты близости умеренного
климата. Не естественнее ли предположить, что идеи, чувства — одним словом,
все те социальные стимулы, которые с такой силой толкают на самоубийство
жителей Северной Франции и Северной Германии, находят себе место и в соседних с
ними странах, живущих приблизительно той же жизнью, хотя и с меньшей
интенсивностью. В Италии до 1870 г. северные провинции насчитывали
больше всего самоубийств, центр следовал за ними, а юг занимал последнее место.
Но мало-помалу расстояние между севером и центром уменьшилось, и в конце концов
они поменялись местами. Между тем климатические условия различных районов
остались неизменными. Изменилось только одно: вследствие завоевания Рима в 1870
г. столица Италии была перенесена в центр страны. Научное, артистическое, экономическое
движения переместились в том же направлении. Самоубийства последовали за ними. Нет, таким образом, никаких оснований
настаивать на вышеприведенной гипотезе, которую решительно ничто не
подтверждает и которой противоречит столько фактов. II Влияние температуры различных времен года, по-видимому, лучше установлено. Соответственные факты допускают различные толкования, но наличность их не подлежит никакому сомнению. Если, вместо того чтобы наблюдать факты, мы
попытаемся путем априорных соображений предсказать, какое время года должно
наиболее благоприятствовать самоубийствам, то мы естественнее всего остановимся
на мысли, что этим временем года должны быть те месяцы, когда солнце
показывается наиболее редко, когда температура наиболее низка, когда погода
наиболее сыра. В самом деле, тот унылый вид, который принимает в это время
природа, должен, по-видимому, неизбежно располагать к мечтательности,
пробуждать тоскливые настроения, вызывать меланхолию. К тому же как раз в этот
период жизнь оборачивается к людям самой суровой своей стороной, ибо в холодные
месяцы, с одной стороны, требуется усиленное питание для пополнения недостатка
естественной теплоты, с другой стороны, добывание пищи затрудняется. Вот те
соображения, исходя из которых еще Монтескье считал холодные и сырые страны особенно
благоприятной почвой для развития самоубийств; и в течение долгого времени это
мнение принималось всеми безапелляционно. Применяя его к отдельным временам
года, пришли к мысли, что осенью самоубийства должны достигать своего апогея.
Хотя уже Esquyrol высказал
сомнение в точности этой теории, тем не менее Falret все еще принимает ее в принципе. В настоящее время
статистика ее окончательно опровергла. Не зимой, не осенью достигает число
самоубийств своего максимума, а летом, когда природа имеет самый радостный вид,
а температура самая мягкая. Человек предпочитает расставаться с жизнью в тот
момент, когда она для него наиболее легка. В самом деле, если разбить год на
два полугодия — одно, содержащее в себе шесть самых теплых месяцев (с марта до
августа включительно), и другое, состоящее из шести самых холодных месяцев, то,
как оказывается, преобладающее число самоубийств всегда падает на первое из
них. Нет ни одной страны, которая бы
составляла исключение из этого правила. Соответственная пропорция
самоубийств везде одинакова — пределы отклонения не превышают нескольких
единиц. Из 1000 ежегодных самоубийств от 590 до 600 приходится на летние
месяцы и только 400 — на остальную часть года. Соотношение между самоубийством и колебаниями
температуры может быть даже определено с большей точностью. Если мы условимся называть зимой три месяца — с
декабря до февраля включительно, весной — март, апрель и май, летом — июнь,
июль и август и осенью — остальные три месяца и если мы распределим эти четыре
сезона соответственно тому месту, которое занимает в течение каждого из них смертность
от самоубийства, то мы почти всегда найдем, что лето стоит на первом месте.
Морселли имел возможность сравнить с этой точки зрения 34 различных периода в
18 европейских государствах и констатировал, что в 30 случаях, т. е. в 88 из
ста, максимум самоубийств падает на летний период, только в трех случаях — на
весну и в одном случае — на осень. Это последнее уклонение, наблюдавшееся в
одном только великом герцогстве Баденском и в один только момент его истории,
не имеет значения, ибо оно есть результат подсчета, охватывающего слишком
короткий промежуток времени; к тому же оно не повторялось в позднейшие
периоды. Три прочих исключения столь же малодоказательны. Они относятся к
Голландии, Ирландии и Швеции. Что касается двух первых стран, то те цифровые
данные, которые послужили основанием для вычисления сезонной средней, слишком
малочисленны для того, чтобы из них можно было делать какие бы то ни было
достоверные выводы,— в Голландии было зарегистрировано всего 387, в Ирландии—
755 случаев. К тому же статистика у обоих этих народов не получила еще
достаточно авторитетной постановки. Наконец, в Швеции данный факт был
констатирован только в течение периода 1835— 1851 гг. Таким образом, если
ограничиться теми государствами, относительно которых мы имеем совершенно
несомненные сведения, то установленный выше закон окажется абсолютным и
всеобщим. Период, на который падает минимум самоубийств,
отличается не меньшей правильностью: в 30 случаях из 34, т. е. в 88 из ста, он
приходится на зиму; в четырех случаях — на осень. Четыре отклоняющиеся страны:
Ирландия, Голландия (как и в предыдущем случае), Бернский кантон и Норвегия. Мы
уже знаем, насколько малоубедительны две первые аномалии; третья еще менее
доказательна, так как она выведена из наблюдения всего 97 самоубийств. Итак, в
26 случаях из 34, т. е. в 76 из ста, сезоны располагаются в следующем порядке:
лето, весна, осень, зима. Этот закон без малейшего исключения
наблюдается в Дании, Бельгии, Франции, Пруссии, Саксонии, Баварии, Вюртемберге,
Австрии, Швейцарии, Италии и Испании. Пользуясь этим бесспорным фактом, Ферри и
Мор-селли пришли к выводу, что температура воздуха имеет на наклонность к
самоубийству прямое влияние и что чисто механическое действие, оказываемое жарою
на мозговые функции человека, заставляет последнего кончать с собой. Ферри
пытался даже объяснить, каким образом это происходит. С одной стороны, говорит он, жара увеличивает
возбуждаемость нервной системы, а с другой, поскольку в жаркое время года
организм не нуждается в большой массе продуктов для поддержания температуры
своего тела на желаемой высоте, получается избыточное накопление сил, которые,
естественно, ищут себе выхода. Вследствие этой двойной причины летом наблюдается
чрезмерное развитие активности, избыток жизни, рвущейся наружу и могущей
проявиться только в форме насильственных действий; самоубийство является одним
из таких проявлений, убийство—другим, и Потому количество добровольных смертей
увеличивается в течение лета, равно как и чисто уголовных преступлений. Кроме
того, психическое расстройство во всех его видах также особенно сильно, по
общему мнению, развивается летом; поэтому естественно, что самоубийство, в силу
своей связи с сумасшествием, обнаруживает ту же картину. Эта соблазнительная по
своей простоте теория кажется на первый взгляд вполне совпадающей с фактами;
представляется даже, что она есть их непосредственное выражение. На самом деле
это далеко не так. III Раньше всего эта теория дает очень спорную
концепцию самоубийства, предполагая, что ему всегда предшествует
психологическое состояние крайнего возбуждения и что оно само есть
насильственное действие, возможное только при наличности большого запаса сил. В
действительности самоубийство, наоборот, часто является результатом крайней
подавленности. Если встречаются самоубийства в состоянии экзальтации и
раздражения, то не менее часто совершаются они в состоянии пассивной
тоски; в дальнейшем мы будем иметь случай указать примеры этого рода.
Совершенно невозможно допустить, чтобы жара одинаковым образом действовала на
эти два вида самоубийств. Если она вызывает один, то должна подавлять другой.
Усиливающее влияние, которое она может проявлять по отношению к одним
индивидам, должно нейтрализоваться и как бы аннулироваться тем умиротворяющим
действием, которое она производит на других; поэтому ее влияние не должно было
бы проявляться таким ярким образом, в особенности в статистических данных. Колебания
статистических цифр в зависимости от времен года должны иметь какую-нибудь
другую причину; что же касается утверждения, что здесь мы имеем простой отзвук
аналогичных и одновременных колебаний в области психических расстройств, то
.для такого объяснения надо допустить существование более тесной и непосредственной
связи между самоубийством и сумасшествием, чем это наблюдается в
действительности. К тому же еще не доказано, что времена года одинаковым
образом влияют на эти два явления. И если бы даже параллелизм этих двух явлений
был несомненен, оставался бы под большим сомнением вопрос о том, зависят ли
подъем и падение кривой сумасшествия от изменений температуры. Совершенно
неизвестно, не производят ли этого результата или не способствуют ли ему
причины совершенно другого рода. Но прежде чем принять то или другое объяснение
этого приписываемого жаре влияния, посмотрим, существует ли оно в
действительности. Из некоторых наблюдений, по-видимому, действительно
следует, что слишком сильная жара может побудить человека лишить себя жизни. Во
время египетской экспедиции число самоубийств во французской армии
увеличилось, и это обстоятельство было приписано влиянию высокой температуры.
Под тропиками часто наблюдается, что люди внезапно бросаются в море в тот
момент, когда лучи солнца падают совершенно вертикально. Доктор Дитрих
рассказывает, что во время кругосветного плавания, совершенного в 1844—1847 гг.
графом Карлом Тортцом, он обратил внимание на своеобразный непобедимый позыв,
овладевавший матросами экипажа; он называет это явление «the horrors» и описывает его
следующим образом: «Болезненное состояние проявляется обыкновенно зимой, когда,
после продолжительного плавания, матросы сходят на сушу, без всяких
предосторожностей садят£я около жарко растопленной печи и предаются,
согласно установившемуся обычаю, излишествам всякого рода. С возвращением на
корабль начинают проявляться симптомы ужасного «horrors». Какая-то непобедимая сила
толкает людей, находящихся в этом состоянии, бросаться в море;
умопомешательство охватывает их во время работы на вершине мачт, иногда
припадок случается во время сна. и несчастные выбегают на палубу, испуская
ужасные крики». Равным образом наблюдали, что сирокко, который неизбежно
сопровождается удушливой жарой, оказывает аналогичное влияние на самоубийство. Но не только жара имеет такое влияние на количество
добровольных смертей; то же самое наблюдается и по отношению к холоду. Говорят,
например, что при отступлении из Москвы во французской армии наблюдались
многочисленные случаи самоубийства. Очевидно, эти факты нисколько не
объясняют, почему регулярно летом число самоубийств больше, чем осенью, и
осенью больше, чем зимою. Если что и можно заключить из вышеуказанного, так
только то, что температуры чрезмерно низкая и чрезмерно высокая влияют
одинаково на количество самоубийств. Вполне понятно, что крайности всякого
рода, внезапные и резкие перемены в физической среде потрясают организм
человека, расстраивают нормальное отправление его функций и вызывают своего
рода помешательство, в течение которого мысль о самоубийстве может зародиться
и, если ничто не рассеет ее, даже реализоваться. Но между этими исключительными
и ненормальными пертурбациями и теми количественными изменениями, которые
испытывает температура в течение каждого года, нет никакой аналогии. Вопрос
остается совершенно открытым, и разрешения его надо искать в анализе
статистических данных. Если бы температура была основной причиной констатированных
нами колебаний, то число самоубийств изменялось бы так же регулярно, как и она.
Между тем мы видим совершенно обратное. Весною лишают себя жизни чаще, чем
осенью, хотя погода в это время несколько холоднее. Таким образом, в то время как термометр поднимается
на 0,9° во Франции и на 0,2° в Италии, число самоубийств уменьшается на 21% в
первой и на 35% — во второй. Точно так же зимняя температура в Италии гораздо
ниже, чем осенняя (2,3° вместо 13,1°), и тем не менее число самоубийств почти
одинаково в обоих временах года (196 случаев в одном и 194 — в другом). Разница
между летом и весной по отношению к количеству совершаемых в них самоубийств
всюду очень невелика, тогда как соответственная разница в температуре воздуха
весьма значительна. Во Франции для второго явления разница 78%, для первого
только 8%, в Пруссии— 121 и 4%. Эта независимость количества
самоубийств от температуры еще более очевидна, если наблюдать число
самоубийств не по временам года, а по месяцам. В самом деле: месячные
изменения подчинены следующему закону, применимому ко всем странам Европы.
Начиная с января включительно число самоубийств регулярно увеличивается из
месяца в месяц вплоть до июня, а начиная с этого момента до конца года правильно
падает. Чаще всего — в 62 случаях из 100 — максимальное число самоубийств
падает на июнь, в 25 случаях — на май ив 12 — на июль. В 60 случаях из 100
минимум падает на декабрь, в 22 — на январь, в 15 — на ноябрь и в 3 — на
октябрь. К тому же и наиболее заметные отклонения от этого общего закона выведены
из такого малого числа случаев, что не могут иметь большого значения. Там, где
можно проследить движение самоубийств на большом протяжении времени, как,
например, во Франции, мы видим, что число их повышается вплоть до июня, затем
уменьшается вплоть до января, причем разница между крайними точками не меньше
90—100% в среднем. Таким образом, количество самоубийств достигает своего максимума
не в самые жаркие месяцы года — июль и август, а наоборот, в августе
интенсивность этого явления значительно уменьшается. Точно так же в большинстве
случаев минимальное количество самоубийств наблюдается не в январе, который
является самым холодным месяцем, а в декабре. В одной и той же стране в течение
месяцев, когда температура остается неизменной, пропорция самоубийств самая
разнообразная (например, май и сентябрь, апрель и октябрь — во Франции, июнь и
сентябрь— в Италии и т. д.). Но часто наблюдается обратное явление: например,
январь и октябрь, февраль и
август во Франции насчитывают одинаковое число самоубийств, несмотря на
громадную разницу в температуре; то же самое наблюдается в апреле и июле в
Италии и Пруссии. Больше того, относительные цифры почти идентичны для каждого
месяца в этих различных странах, хотя месячные температуры в них крайне
разнятся между собою. Так, например, май, температура которого 10,47° в
Пруссии, 14,2° во Франции, 18° в Италии, дает в первой стране 104 случая самоубийства,
во второй—105, в третьей—103. Можно сказать то же самое почти
обо всех других месяцах. Особенно замечателен в этом отношении декабрь. Его
доля в общем годовом числе самоубийств совершенно одинакова для трех
наблюдаемых стран — 61 на тысячу, а между тем температура в это время года,
достигая 7,9° в Риме, и 9,5° в Неаполе, в Пруссии не поднимается выше 0,67°. Не
только месячная температура в разных странах различна, но и изменяется она по
различным законам. Так, во Франции температура сильнее повышается от января до
апреля, чем от апреля до июля, тогда как в Италии — наоборот. Между
термометрическими изменениями и числом самоубийств нет никакого соотношения.
Если бы температура действительно оказывала то влияние, которое ей
приписывают, то влияние это сказывалось бы и в географическом распределении
самоубийств: наиболее жаркие страны должны были бы насчитывать наибольшее
количество их. Подобный вывод напрашивается с такой очевидностью, что к нему
прибегает даже итальянская школа; она пытается доказать, что наклонность к
убийству также увеличивается с повышением температуры. Ломброзо и Ферри хотели
установить, что число убийств, возрастая летом по сравнению с зимой, в то же
время оказывается на юге более значительным, чем на севере. К несчастью,
поскольку дело касается самоубийств, фактические данные говорят против
итальянских криминалистов, так как в южной части Европы самоубийство развито
всего слабее: в Италии — в 5 раз меньше, чем во Франции, в Испании и
Португалии оно почти не встречается. На французской карте самоубийств
единственное сколько-нибудь светлое пятно падает на департаменты, расположенные
к югу от Луары. Конечно, мы не хотим сказать, что такое распределение
самоубийств действительно является результатом температуры, но, какова бы
ни была его причина, оно представляет собою факт, несогласный с теорией,
рассматривающей жару как стимул самоубийства. Сознание этих затруднений и
противоречий заставило Ломброзо и Ферри слегка изменить доктрину своей школы,
не отказываясь, однако, от ее основного принципа. Согласно приводимому у
Морселли мнению Ломброзо, наклонность к самоубийству вызывается не столько
высокой температурой, сколько наступлением первых жарких дней, т. е. самим
контрастом между проходящим холодом и наступающим теплом. Внезапные жары
застигают врасплох человеческий организм, еще не привыкший к новой температуре.
Но достаточно самого беглого изучения фактов, для того чтобы убедиться в том,
что это объяснение лишено всякого основания. Если бы оно было правильно, то
кривая, обозначающая месячное движение самоубийств, должна была бы быть
горизонтальной в течение осени и зимы, затем сразу повыситься в момент
наступления первых жаров, являющихся источником всех бед, и столь же внезапно
опуститься, когда организм успел приспособиться к новым условиям. Мы видим,
наоборот, что поступательное движение происходит крайне правильно, увеличение
в течение всего времени, пока оно существует, почти одинаково из месяца в
месяц; кривая поднимается от декабря до января, от января до февраля, от
февраля до марта, т. е. в течение месяцев, когда еще очень далеко до первых
жаров, и прогрессивно опускается между сентябрем и декабрем — в тот момент,
когда жаркие дни уже давно окончились, так что это явление нельзя приписать их
прекращению. Но когда же начинаются жары? Обыкновенно говорят, что они
появляются в апреле, и действительно, от марта до апреля термометр поднимается
с 6,4° до 10,1°; повышение, следовательно, доходит до 57%, тогда как от апреля
до мая оно только 40%, от мая до июня — 21%. Поэтому максимальное число
самоубийств должно было бы падать на апрель; на самом деле увеличение числа
самоубийств, наблюдаемое в это время, не выше, чем за период от января до
февраля (18%). Наконец, так как это приращение не только поддерживается, но и
возрастает — правда, более медленно — до июня и даже до июля, то очень трудно
приписать его влиянию весны, если не продолжить эту часть года до конца лета,
исключив только один август. Кроме того, если бы первые теплые
дни влекли за собою столь трагические последствия, то первые холода должны
были бы иметь такое же влияние: они также застают организм в тот момент, когда
он отвык уже от низкой температуры; они расстраивают отправление жизненных
функций до тех пор, пока не наступит полное приспособление. Тем не менее осенью
не заметно никакого возрастания, которое хоть немного было бы похоже на
наблюдаемое весной. Поэтому мы совершенно не понимаем, каким образом Морселли,
признав, что, согласно его теории, переход от тепла к холоду должен иметь те
же результаты, что и обратный переход, мог добавить: «Это действие, оказываемое
первыми холодами, может быть проверено или статистическими таблицами, или —
еще лучше — вторичным повышением всех наших кривых осенью, в октябре и ноябре,
т. е. в то время, когда переход от теплого времени года к холодному сильнее
всего ощущается человеческим организмом, и в особенности нервной системой». Даже из цифр, приведенных
Морселли, вытекает, что от октября до ноября число самоубийств почти не
увеличивается ни в одной стране, а, наоборот, уменьшается. Исключение
составляют лишь Дания, Ирландия и Австрия в течение одного только периода
(1851 — 1854гг.) и увеличение в этих случаях минимальное. В Дании число
самоубийств увеличивается с 68 до 71 на 1000; в Ирландии — с 62 до 66, в Австрии—
с 65 до 68. Точно так же в октябре увеличение наблюдается только в 8 случаях из
31, а именно в течение одного периода в Норвегии, Швеции, Саксонии, Баварии,
Австрии, Пруссии, герцогстве Баденском и в течение двух периодов — в Вюртемберге.
Во всех других случаях число самоубийств или уменьшается, или остается в
стационарном состоянии. В общем, в 21 случае из 31, т. е. в 67 из 100, между
сентябрем и декабрем наблюдается регулярное уменьшение. Полная непрерывность кривой как
во время прогрессивной, так и во время обратной фазы доказывает, что месячные
колебания количества самоубийств не могут вытекать из преходящего кризиса
организма, возникающего один или два раза в году в результате внезапного и
временного нарушения общего равновесия. Эти изменения могут зависеть только от
причин, изменяющихся в свою очередь с той же непрерывностью. IV Невозможно не заметить с самого начала, каковы
эти причины. Если сравнить долю каждого месяца в общем годовом числе
самоубийств со средней долготою дня того же времени года, то мы заметим, что
два полученных таким образом ряда цифр изменяются совершенно одинаково.
Параллелизм получается полный. Максимум и минимум в обоих случаях наступает
одновременно; в промежутках явления обоего рода идут pori passu. Когда дни быстро
увеличиваются, то значительно увеличивается и число самоубийств (от января до
апреля); когда замедляется увеличение дня, то же происходит и с количеством
самоубийств (от апреля до июня). Такое же соответствие наблюдается в период уменьшения.
Даже различные месяцы, у которых длина дня почти одинакова (июль и май, август
и апрель), имеют одинаковое число самоубийств. Такое регулярное и определенное
совпадение не может быть случайным. Между движением самоубийств и увеличением
дня должно существовать соотношение. Помимо того что эта гипотеза вытекает
непосредственно из имеющихся данных, она объясняет нам отмеченный выше факт.
Мы уже видели, что в главнейших европейских государствах количество самоубийств
распределяется одинаковым образом по различным временам года (сезонам или
месяцам). Теория Ферри и Лом-брозо совершенно не могла объяснить этого любопытного
единообразия, так как температура очень различна в разных странах Европы и
неодинаково изменяется, а долгота дней, наоборот, почти одна и та же для всех
подвергнутых нами сравнению государств. Но что окончательно подтверждает
существование этого соотношения, так это тот факт, что в каждом времени года
большинство самоубийств совершается днем. Brierre de Boismont имел
возможность рассмотреть 4595 случаев самоубийства, совершенных в Париже между
1834 и 1843 гг. Из 3518 случаев, время совершения которых удалось установить,
2094 произошли днем, 766 — вечером и 658 — ночью. Число самоубийств,
совершенных днем и вечером, составляет 4/5 общей суммы, а одни
только самоубийства, совершенные днем, дают 3/5 общего
числа. Прусская статистика собрала по
данному вопросу более многочисленные данные. Они относятся к 11 822 случаям, имевшим место на протяжении 1869— 1872 гг. Они только подтверждают
заключение Brierre de Boismont.
Очевидно, что перевес оказывается на стороне дневных самоубийств. Но если
день дает больше самоубийств, чем ночь, то, естественно, число их
увеличивается по мере того, как удлиняется день. Чем же объясняется такое влияние
дня? Конечно, для объяснения этого
обстоятельства нельзя ссылаться на действие, оказываемое солнцем и температурой.
Количество самоубийств, совершенных среди дня, т. е. в момент самой сильной
жары, гораздо менее многочисленно, чем то, которое наблюдается вечером или
утром. Ниже мы даже увидим, что в самый полдень число самоубийств значительно
уменьшается. За устранением этого объяснения остается еще одно: днем
совершается большее число самоубийств потому, что день — это время наибольшего
оживления человеческой деятельности, когда скрещиваются и перекрещиваются
человеческие отношения, когда социальная жизнь проявляется наиболее
интенсивно. Некоторые имеющиеся у нас
сведения относительно того, каким образом число самоубийств распределяется на
протяжении дня или на протяжении недели, подтверждают это предположение. На
основании 1993 случаев, отмеченных Brierre de Boismont в
Париже, и 548 случаев, относящихся к общему числу самоубийств во Франции,
собранных Терри, она показывает, какие значительные колебания имеют место в
течение 24 часов. Существует два момента, когда
самоубийство достигает своего зенита: это те часы, в течение которых
совершается наибольшее количество дел,— утро и время после полудня. Между
этими двумя периодами существует время отдыха, когда общая деятельность
приостанавливается, а с нею приостанавливается и совершение самоубийств. Это
ослабление падает на 11 часов утра в Париже и на 12 часов — в провинции. В
департаментах этот период более продолжителен и более заметен, чем в столице,
так как провинциалы в это время обедают; приостановка самоубийств там также
ярче выражена и более продолжительна. Прусские статистические данные позволяют
сделать аналогичные выводы. С другой стороны, Герри,
определив в 6587 случаях день недели, в который совершались самоубийства, получил
ряд цифр. Из этих данных вытекает, что число самоубийств уменьшается к концу
недели начиная с пятницы, а известно, что в силу общераспространенного
предрассудка социальная жизнь замедляет свой темп в пятницу. В пятницу
значительно менее оживлено движение по железным дорогам, чем в другие дни; в
этот день дурных примет обыкновенно не решаются завязывать новых отношений и
не предпринимают важных дел. В субботу, начиная с после полудня, замечается
общее замедление социальной жизни; в некоторых странах в этот день очень рано
прекращают работу, может быть, предвкушение следующего дня оказывает на умы
расслабляющее воздействие. Наконец, в воскресенье экономическая жизнь
прекращается окончательно; если бы на место нее не становилась
жизнедеятельность другого рода, если бы увеселительные места не наполнялись в
тот момент, как пустеют мастерские, конторы и магазины, то, по всей вероятности,
число самоубийств в воскресенье уменьшилось бы еще сильнее. Кроме того, в
воскресенье особенно высоко относительное участие женщин в общем числе
самоубийств —может быть, потому, что в этот день женщина чаще выходит из дома,
к которому она как бы прикована в остальные дни недели; в этот день женщина
принимает хоть некоторое участие в общественной жизни. Все доказывает, таким образом,
что день — наиболее благоприятный момент для совершения самоубийства, так как
он в то же время является таким моментом, в котором социальная жизнь
проявляется во всей интенсивности. Но если это так, то мы нашли причину,
которая объясняет нам, почему число самоубийств увеличивается по мере того, как
солнце дольше стоит над горизонтом; ведь уже одно увеличение долготы дня
открывает более широкое поле для коллективной жизни; период отдыха настает позднее
и кончается раньше, и она имеет больше времени для своего развития. Вместе с
тем неизбежно должны развиваться более интенсивно и ее результаты, а
следовательно, должно возрастать и число самоубийств, являющееся одним из этих
результатов. Но это только первая, и не
единственная, причина. Если общественная деятельность интенсивнее летом, чем
весной, весной, чем осенью, и осенью, чем зимой, то это происходит не только
потому, что внешняя рамка, в которой она развивается, расширяется по
мере перехода от одного сезона к другому, но и потому также, что здесь играют
роль иные непосредственные возбудители. Зима является для деревни временем
отдыха, граничащего с полным застоем в делах. Жизнь как бы совершенно замирает,
люди редко между собою встречаются и в силу состояния атмосферы, и потому,
что с упадком деловых оборотов прекращается в этом всякая надобность. Жители
деревни погружаются в настоящий сон. Но с наступлением весны все
начинает просыпаться, возобновляются работы, завязываются сношения друг с
другом, увеличивается обмен и начинается постоянная циркуляция населения для
обслуживания земледельческих нужд. Эти исключительные условия деревенской
жизни не могут не иметь большого влияния на месячное распределение числа
самоубийств, так как более половины общего числа добровольных смертей падает на
долю деревни. Во Франции в период от 1873—1878гг. в деревне насчитывалось
самоубийств 18 470 случаев из 36 365. Ввиду этого вполне естественно, что число
самоубийств увеличивается с приближением теплого времени года; максимум
приходится на июнь или июль, т. е. на время наибольшего оживления деревенской
жизни; в августе все начинает снова успокаиваться, и число самоубийств падает;
однако быстрое понижение наступает лишь в октябре и особенно в ноябре, может
быть, потому, что некоторые продукты сельского хозяйства созревают и собираются
только глубокой осенью. Те же причины оказывают влияние,
хотя и в более слабой степени, на пространстве всей территории. Городская
жизнь также всего оживленнее летом: в это время легче сообщаться между собою;
люди охотнее переезжают с одного места на другое, и внутриобщест-венные
отношения охватывают более широкие круги. Внутреннее движение в каждом
городе проходит через те же фазы. В течение 1887 г. число пассажиров, переезжавших
из одного пункта Парижа в другой, регулярно увеличивалось с января (655 791) до
июня (848 831) и уменьшалось начиная с этого последнего месяца до декабря (659
960) с тою же непрерывностью. Приведем еще одно, последнее
наблюдение для подтверждения нашего понимания фактов. Если по вышеуказанным
причинам городская жизнь должна быть интенсивнее летом и весной, чем в другое
время года, то все же колебания в зависимости от времен года в городе
должны быть заметны слабее, чем в деревне, так как коммерческие и промышленные
дела, научные и художественные работы, светские отношения не замирают зимой в
такой степейи, как земледельческие работы; занятия горожанина могут продолжаться
почти с одинаковой интенсивностью в течение всего года. Большая или меньшая продолжительность
дня должна иметь особенно мало значения в больших центрах, потому что здесь
искусственное освещение более, чем в других местах, уменьшает время ночной
темноты. Если изменения количества самоубийств в зависимости от месяца
или сезона определяются различной степенью интенсивности общественной жизни,
то они должны быть менее заметны в больших городах, чем во всей стране вообще.
Факты вполне подтверждают наше предположение. В самом деле, если во Франции, в
Пруссии, Австрии и Дании между минимумом и максимумом существует разница в
52,4% и даже в 68%, то в Париже, Берлине, Гамбурге и т. д. уклонение достигает
в среднем только 20—25%, а во Франкфурте опускается до 12%. Мало того, мы видим, что в больших городах происходит обратное тому, что наблюдается во всей стране: максимум самоубийств часто падает на весну. Даже в том случае, когда лето стоит впереди весны (Париж, Франкфурт), перевес на его стороне очень незначителен. Это зависит от того, что в главных центрах в течение летнего времени часто наблюдается настоящее выселение наиболее активных общественных элементов, а это имеет своим последствием легкое понижение общего темпа жизни. Мы начали эту главу тем, что отказались
признать за космическими факторами прямое влияние на месячное или сезонное колебание
числа самоубийств. Мы видим теперь, в чем заключаются настоящие причины, в
каком направлении их надо искать; и этот положительный результат подтверждает
заключение нашего критического исследования. Если число добровольных смертей
увеличивается в промежутке от января до июля, то это происходит не потому, что
жара губительно действует на человеческий организм, а в силу того, что пульс
социальной жизни бьется интенсивнее. Без сомнения, социальная жизнь достигает
летом этой интенсивности благодаря тому, что положение солнца по
отношению к земле, состояние атмосферы и т. д. позволяют ей в жаркое время
развиваться сильнее и свободнее, чем зимой, но определяет ее не только
физическая среда; и менее всего она влияет на ход самоубийств: последний
зависит от социальных условий. Правда, мы еще не знаем, в чем именно состоит
воздействие коллективной жизни, но уже теперь можем понять, что если оно
содержит в себе причины, изменяющие процент самоубийств, то процент этот должен
увеличиваться и уменьшаться в зависимости от интенсивности жизни коллектива. В
следующей книге будет определено более точно, в чем заключаются эти причины. ГЛАВА IV. ПОДРАЖАНИЕПрежде чем перейти к исследованию социальных
причин самоубийства, надо рассмотреть влияние еще одного психологического
фактора, которому приписывается особо важное значение в генезисе социальных
факторов вообще, самоубийства в частности. Мы говорим о подражании. Подражание есть, бесспорно, явление чисто психологическое;
это вытекает уже из того обстоятельства, что оно возникает среди индивидов, не
связанных между собою никакими социальными узами. Человек обладает
способностью подражать другому человеку вне всякой с ним солидарности, вне
общей зависимости от одной социальной группы, и распространение подражания
само по себе бессильно создать взаимную связь между людьми. Чихание, пляска св.
Витта, страсть к буйству могут передаваться от одного индивида к другому при
наличности только временного и преходящего соприкосновения между ними; нет
необходимости, чтобы среди них возникала какая-либо моральная или
интеллектуальная связь или обмен услуг, нет надобности даже, чтобы они говорили
на одном языке; взаимно заражаясь, перенимая что-либо друг у друга, люди вовсе
не становятся ближе, чем были раньше. В общем, тот процесс, посредством
которого мы подражаем окружающим нас людям, служит нам и для воспроизведения
звуков природы, форм вещей, движения тел. Так как ничего социального нет во
втором случае, то его также нет и в первом. Источник подражания заложен в известных
свойствах представляющей деятельности нашего сознания,— в свойствах, которые
вовсе не являются результатом коллективного влияния. Если бы было доказано,
что подражание может служить определяющей причиной того или иного процента
самоубийств, то тем самым пришлось бы признать, что число самоубийств — всецелр
или только отчасти, но во всяком случае непосредственно — зависит от
индивидуальных причин. I Однако, прежде чем рассматривать факты, надо
условиться относительно самого смысла слов. Социологи настолько привыкли
употреблять термины, не определяя их значения, т. е. не очерчивая методически
пределов той группы объектов, которую они в том или другом случае имеют в
виду, что без их ведома выражение, передававшее первоначально одно понятие или
по крайней мере стремившееся к этому, сливается зачастую с другими, смежными
определениями. При таких условиях любая идея получает настолько неопределенный
смысл, что теряется возможность даже спорить о ней. При отсутствии точно
определенных очертаний каждое понятие может, смотря по надобности,
преобразовываться почти произвольно, и никакая критика не в состоянии заранее
предвидеть, с каким именно из тех видоизменений, которые оно способно
принять, ей придется иметь дело. Как раз в таком положении и находится вопрос о
так называемом инстинкте подражания. Слово это служит одновременно для обозначения
следующих 3 групп фактов. 1) Внутри одной и той же социальной группы, все
элементы которой подчинены действию одной и той же причины или ряда сходных
причин, наблюдается некоторого рода нивелировка сознания, в силу чего все
думают и чувствуют в унисон. Очень часто называют подражанием ту совокупность
действий, из которой вытекает эта согласованность. При таком понимании слово
это обозначает способность состояний сознания, одновременно переживаемых
некоторым числом разных индивидов, действовать друг на друга и комбинироваться
между собой таким образом, что в результате получается известное новое
состояние. Употребляя слово в этом смысле, тем самым говорят, что комбинация
эта объясняется взаимным подражанием каждого всем и всех каждому. «Лучше
всего,— говорит Тард,— такого рода подражания обнаруживают свой характер в
шумных собраниях наших городов, в грандиозных сценах наших революций».
Именно при таких обстоятельствах лучше всего можно видеть, как люди, собравшись
вместе, преображаются под взаимным влиянием друг на друга. 2) То же самое название дается заложенной в
человеке потребности приводить себя в состояние гармонии с окружающим его
обществом и с этою целью усваивать тот образ мыслей и действий, который в этом
обществе является общепризнанным. Под влиянием этой потребности мы следуем
модам и обычаям, а так как обычные юридические и моральные нормы представляют
собою не что иное, как определенные и укоренившиеся обычаи, то мы чаще всего
подчиняемся влиянию именно этой силы в своих моральных поступках. Каждый раз,
когда мы не видим смысла в моральной максиме, которой повинуемся, мы
подчиняемся ей только потому, что она обладает социальным авторитетом. В этом
смысле подражание модам отличается от следования обычаям лишь тем, что в одном
случае мы берем за образец поведение наших предков, в другом — современников. 3) Наконец, может случиться, что мы воспроизводим
поступок, совершившийся у нас на глазах или дошедший до нашего сведения, только
потому, что он случился в нашем присутствии или доведен до нашего сведения. Сам
по себе поступок этот не обладает никакими внутренними достоинствами, ради
которых стоило бы повторять его. Мы копируем его не потому, что считаем его
полезным, не для того, чтобы последовать избранному нами образцу, но просто
увлекаемся самим процессом копирования. Представление, которое мы себе об этом
поступке создаем, автоматически определяет движения, которые его
воспроизводят. Мы зеваем, смеемся, плачем именно потому, что мы видим, как
другие зевают, смеются, плачут. Таким же образом мысль об убийстве проникает
иногда из одного сознания в другое. Перед нами подражание ради подражания. Эти три вида фактов очень разнятся друг от друга.
И прежде всего первый вид нельзя смешивать с последующими, так как он не
заключает в себе никакого воспроизведения в полном смысле этого слова, а
представляет синтез sui generis
различных или, во всяком случае, разнородных по происхождению состояний. Слово
«подражание» в качестве определения этого понятия не имеет никакого смысла. Проанализируем более тщательно это явление. Некоторое
число собравшихся вместе людей воспринимают одинаково одно и то же
обстоятельство и замечают свое единодушие благодаря идентичности внешних
знаков, которыми выражаются чувства каждого из них. Что же тогда происходит?
Каждый присутствующий смутно представляет себе, в каком состоянии находятся
окружающие его люди. В уме накопляются образы, выражающие собою всевозможные проявления
внутренней жизни, исходящие от различных элементов данной толпы со всеми их
разнообразными оттенками. До сих пор мы не видим еще ничего такого, что бы
могло было быть названо подражанием; сначала мы имеем просто воспринимаемые
впечатления, затем ощущения, совершенно однородные с теми, которые вызывают в
нас внешние тела. Что происходит затем? Пробужденные в моем сознании, эти
различные представления комбинируются между собою, а также с тем
представлением, которым является мое собственное чувство. Таким путем образуется новое состояние, которое
уже нельзя назвать моим в той степени, как предыдущее, которое уже менее
окрашено индивидуальной особностью и посредством целого ряда последовательных
повторных переработок, вполне аналогичных с первоначальной, в состоянии еще
более освободиться от того, что в нем еще носит слишком частный характер.
Квалифицировать эти комбинации как факты подражания можно только в том случае,
если вообще условиться называть этим именем всякую интеллектуальную операцию,
где два или несколько подобных состояний сознания вызывают друг друга в силу
своего сходства, затем сливаются вместе и образуют равнодействующую, которая
всех их поглощает в себе и в то же время отличается от каждого из них в
отдельности. Конечно, допустимо всякое словоупотребление. Но нельзя не
признать, что в данном случае оно было бы в особенности произвольным и могло
бы стать только источником путаницы, ибо здесь слово совершенно лишается своего
обычного значения. Вместо «подражания» тут было бы уместнее говорить о
«созидании» ввиду того, что при данном сочетании сил получается нечто новое.
Для нашего интеллекта это единственный способ что-либо создать. Могут на это возразить, что подобное творчество
ограничивается только тем, что увеличивает интенсивность начального состояния
нашего сознания. Но во-первых, всякое количественное изменение есть все же
внесение чего-то нового; а во-вторых, количество вещей не может изменяться без
того, чтобы от этого не переменилось и их качество; какое-либо чувство, становясь
вдвое или втрое сильнее, совершенно изменяет свою природу. Ведь та сила, с
которой собравшиеся вместе люди взаимно влияют друг на друга, может зачастую
превратить безобидных граждан в отвратительное чудовище. Поистине странное
«подражание», раз оно производит подобного рода превращение! Если в науке
пользуются такой неточной терминологией для обозначения этого явления, то это
происходит, без сомнения, потому, что исходят из смутного представления, будто
каждое индивидуальное чувство есть как бы копия чувств другого человека. Но на
самом деле не существует ни образцов, ни копий. Мы имеем здесь слияние,
проникновение некоторого числа состояний данного сознания в глубь другого,
отличающегося от них; это будет новое коллективное состояние сознания. Конечно, не было бы никакой неточности, если бы
подражанием стали называть причину, производящую это состояние, если бы всегда
делалось допущение, что подобное настроение духа внушено толпе каким-нибудь
вожаком, но — помимо того, что это утверждение решительно ничем не обосновано и
находится в полном противоречии с множеством фактов, где мы можем наблюдать,
что руководитель явно выдвигается самой толпою, вместо того чтобы быть ее
движущей силой,— даже помимо этого случаи, где доминирующее влияние вожака
носит реальный характер, не имеют ничего общего с тем, что называется взаимным
подражанием, ибо здесь подражание проявляется односторонне, и потому мы
оставим его пока в стороне. Прежде всего надо старательно избегать тех смешений,
которые уже в достаточной мере затемнили занимающий нас вопрос. Если бы кто-нибудь высказал мнение, что в каждом
собрании людей всегда имеются индивидуумы, разделяющие общее мнение не по
свободному убеждению, а подчиняясь авторитету, то это было бы неоспоримой
истиной. Мы даже думаем, что в таких случаях всякое индивидуальное
сознание в большей или меньшей степени испытывает подобного рода принуждения.
Но если оно имеет своим источником силу sui generis, которой облечены общие действия и верования, когда
они прочно установились, то оно относится ко второй категории отмеченных нами
фактов. Рассмотрим эту категорию и прежде всего спросим себя, в каком смысле
ее можно назвать подражанием. Категория эта отличается от предыдущей тем, что
она не предполагает воспроизведения какого-либо образца. Когда следуют
известной моде или соблюдают известный обычай, то поступают в этом случае так,
как поступали и поступают ежедневно другие люди. Но уже из самого определения
следует, что это повторение не может быть вызвано тем, что называется
инстинктом подражания; с одной стороны, оно является как бы симпатией, которая
заставляет нас не оскорблять чувства окружающих нас людей, дабы не испортить
хороших отношений с ними; с другой стороны, оно порождается тем уважением,
которое нам внушает образ мыслей и действий коллектива, и прямым или косвенным
давлением, которое оказывает на нас коллектив, дабы предупредить с нашей
стороны всякое диссидентство и поддержать в нас это чувство уважения. В данном
случае мы не потому воспроизводим тот или иной поступок, что он был совершен в
нашем присутствии, что мы получили о нем сведения, и не потому, что нас
увлекает воспроизведение само по себе, но потому, что он представляется нам
обязательным и в известной степени полезным. Мы совершаем этот поступок не
потому просто, что он был раз осуществлен, а потому, что он носит на себе
печать общественного одобрения, к которому мы привыкли относиться с уважением и
противиться которому значило бы обречь себя на серьезные неприятности. Одним словом, поступать в силу уважения к общественному мнению или из страха перед
ним не значит подражать. От такого рода поступков не отличаются по существу
и те образцы, которыми мы руководствуемся, когда нам приходится делать что-либо
новое. В самом деле, лишь в силу особого, присущего им характера признаем мы их
за то, что должно быть сделано. Но если мы даже начинаем бороться
против обычаев, вместо того чтобы следовать им, это вовсе не значит, что
картина совершенно изменилась; раз мы исповедуем какую-нибудь новую идею,
увлекаемся чем-либо оригинальным, значит, данное новшество имеет свои
внутренние качества, заставляющие нас признать его заслуживающим одобрения. Без
сомнения, руководящие нами мотивы в этих двух случаях неоднородны, но
психологический механизм тождествен там и здесь. Между представлением о
действии, с одной стороны, и осуществлением его—с другой, происходит
интеллектуальный акт, состоящий в ясном или смутном, беглом или медленном
постижении определяющего характера данного поступка, каков бы он ни был. Способ
нашего подчинения нравам и модам своей страны не имеет ничего общего с
машинальным подражанием, заставляющим нас воспроизводить движения, свидетелями
которых мы являемся. Между этими двумя способами действий лежит вся та пропасть,
которая отделяет разумное и обдуманное поведение от автоматического рефлекса.
Первое имеет свои основания даже тогда, когда они не высказаны в отчетливо
формулированных суждениях. Второй лишен разумных оснований; он непосредственно
обусловливается созерцанием данного акта без всякого участия разума. Теперь понятно, какие могут
произойти ошибки, если соединять под одним и тем же названием факты двух столь
различных порядков. Когда говорят о подражании, то подразумевают под этим
явление заражения и переходят, не без некоторого, впрочем, основания, от
первого понятия ко второму с величайшей легкостью. Но что же есть
заразительного в факте выполнения этических норм или подчинения авторитету
традиции или общественного мнения? На самом деле, вместо того чтобы привести одну
реальность к другой, только смешивают два совершенно различных понятия. В
патологической биологии говорят, что болезнь заразительна, когда она всецело
или почти всецело зависит от развития зачатка, извне введенного в организм.
Наоборот, поскольку этот зачаток мог» развиться только благодаря активному
содействию почвы, на которую он попал, понятие заразы уже неприменимо в строгом
смысле этого слова. Точно так же, для того чтобы поступок можно было приписать
нравственной заразе, недостаточно, чтобы мысль о нем была внушена нам
однородным поступком. Кроме того, надо еще, чтобы, войдя в наше сознание, эта
мысль самостоятельно и автоматически превратилась в акт; только тогда
действительно можно говорить о наличности заражения, потому что здесь внешний
поступок, проникнув в наше сознание в форме представления, сам воспроизводит
себя. В этом случае мы имеем также и подражание, так как новый поступок
всецело является продуктом того образца, копией которого он является. Но если
то впечатление, которое этот последний производит на нас, проявит свое действие
только при помощи нашего на то согласия и благодаря нашему соучастию, то о
заражении можно говорить только фигурально, а в силу этого и неточно. В этом
случае определяющими причинами нашего действия являются известные основания, а
не имевшийся у нас перед глазами пример. Здесь мы сами являемся виновниками
нашего поступка, хотя он и не представляет собою нашего измышления.
Следовательно, все так часто повторяемые фразы о распространенности подражания,
о силе заражения не имеют значения и должны быть отброшены в сторону; они
извращают факты, а не объясняют их, затемняют вопрос, вместо того чтобы
осветить его. Одним словом, если мы желаем
устранить всякие недоразумения, мы не должны обозначать одними и теми же
словами и тот процесс, путем которого среди человеческого общества
вырабатывается коллективное чувство, и тот, который побуждает людей
подчиняться общим традиционным правилам поведения, и тот, наконец, который
заставил Панургово стадо броситься в воду только потому, что один баран сделал
это. Совершенно разное дело чувствовать сообща, преклоняться перед авторитетом
общественного мнения и автоматически повторять то, что делают другие. В фактах первого порядка
отсутствует всякое воспроизведение; в фактах второго порядка оно является
простым следствием тех явно выраженных или подразумеваемых суждений и
заключений, которые составляют существенный элемент данного явления; поэтому
воспроизведение не может служить определяющим признаком этого последнего. И
только в третьем случае воспроизведение играет главную роль, занимает собой
все, так что новое действие представляет лишь эхо начального поступка. Здесь
второй поступок буквально повторяет первый, причем повторение это вне себя
самого не имеет никакого смысла, и единственной его причиной оказывается
совокупность тех наших свойств, благодаря которым мы при известных
обстоятельствах делаемся подражательными существами. Поэтому, если мы хотим
употреблять слово «подражание» в его точном значении, мы должны применять его
исключительно к фактам этой категории; следовательно, мы назовем
подражанием акт, которому непосредственно предшествует представление сходного
акта, ранее совершенного другим человеком, причем между представлением и
выполнением не происходит никакой— сознательной или бессознательной—умственной
работы, относящейся к внутренним свойствам воспроизводимого действия. Итак, когда задается вопрос о
том, какое влияние имеет подражание на процент самоубийств, то это слово надо
брать именно в указанном смысле. Придерживаться иного понимания — значит
удовлетворяться чисто словесным объяснением. В самом деле, когда о каком-нибудь
образе мыслей и действий говорят, что он является подражанием, то полагают, что
этим волшебным словом все сказано. В действительности же этот термин применим
только к случаям чисто автоматического воспроизведения. Здесь для объяснения
достаточно одного слова «подражание», так как все происходящее в этом случае
есть продукт заражения подражанием. Но когда мы следуем какому-нибудь
обычаю или придерживаемся правил морали, то внутренние свойства этого самого
обычая, те чувства, которые он внушает нам, и служат объяснением нашего ему подчинения.
Когда по поводу такого рода поступков говорят о подражании, то в сущности не
объясняют решительно ничего; нам говорят только, что совершенный нами поступок
не содержит ничего нового, т. е. что он является только воспроизведением, но
нам не дают объяснений ни того, почему люди поступают именно так, а не иначе,
ни того, почему мы повторяем их действия. Еще менее путем слова «подражание»
можно исчерпать анализ сложного процесса, результатом которого являются
коллективные чувства и которому выше мы могли дать только приблизительное и
предварительное определение. Неточное употребление этого термина может создать
иллюзию, будто с помощью его найдено решение самого вопроса, тогда как на самом
деле нет ничего, кроме игры словами и самообмана. Только определив подражание указанным нами способом, мы будем иметь право считать его психологическим фактором самоубийства. В действительности то, что называют взаимным подражанием, есть явление вполне социальное, так как мы имеем здесь дело с общим переживанием общего чувства. Точно так же следование обычаям, традициям является результатом социальных причин, ибо оно основано на их обязательности, на особом престиже, которым пользуются коллективные верования и коллективная практика в силу того только, что они составляют плод коллективного творчества. Следовательно, поскольку можно допустить, что самоубийство распространяется по одному из этих путей, оно зависит не от индивидуальных условий, а от социальных причин. Установив таким образом границы данной проблемы, займемся рассмотрением фактов. II Не подлежит никакому сомнению,
что мысль о самоубийстве обладает заразительностью. Мы уже говорили о
коридоре, где последовательно повесились 15 инвалидов, или о той известной
часовой будке в булонс-ком лагере, которая на протяжении нескольких дней
послужила местом нескольких самоубийств. Факты этого рода часто наблюдались в
армии: в 4-м стрелковом полку в Провансе в 1862 г.; в 15-м пехотном в 1864 г.;
в 41-м сначала в Монпелье, а потом в Ниме в 1868 г. и т. д. В 1813 г. в
маленькой деревушке St.
Pierre Monjau повесилась на дереве одна женщина, и в течение небольшого
промежутка времени несколько других повесились там же. Пинель рассказывает,
что по соседству с Etampes повесился священник; через несколько дней на том же
месте повесились еще два духовных лица, а вскоре затем их примеру последовали
несколько светских людей. Когда лорд Кэстльри бросился в кратер Везувия,
несколько человек из его спутников последовали за ним. Дерево Тимона-Мизантропа
сделалось историческим. В домах заключения многочисленными наблюдениями
также подтверждаются случаи психического заражения. Тем не менее установилось
обыкновение относить к области подражания целый ряд фактов, которые, на наш
взгляд, имеют совсем иное происхождение. Это те случаи, которые носят название
самоубийств «одержимых». В «Истории войны евреев с Римом» Жозеф рассказывает,
что во время осады Иерусалима некоторое число осажденных лишило себя жизни. В
частности, 40 евреев, спасшихся в подземелье, решили умереть и убили друг
друга. «Осажденные Брутом ксан-тийцы,— говорит Монтэнь,— были охвачены все, мужчины,
женщины и дети, непобедимым желанием умереть и с такою страстностью искали
смерти, с какою люди обыкновенно защищают свою жизнь. Бруту едва удалось
спасти немногих из них». Нет никакого основания предполагать, что эти случаи
массового самоубийства происходят от одного или двух индивидуальных случаев,
являясь только повторением их; здесь мы имеем скорее результат коллективного решения,
настоящего социального «consensus», чем простого влияния заразительной силы. В данном
случае идея не рождается в отдельности у каждого субъекта, чтобы затем охватить
сознание других людей, но вырабатывается всей группой в совокупности, причем
группа эта, попав в безвыходное положение, коллективно решает умереть. То же
самое случается каждый раз, когда какое бы то ни было социальное целое
реагирует сообща под влиянием одного и того же обстоятельства. Соглашение по
природе своей остается тем же, что и было, независимо от того, что действие
происходит в порыве страсти; оно осталось бы без всяких изменений, даже если
бы происходило методически и более обдуманно. Поэтому было бы совершенно
неправильно говорить здесь о подражании. То же самое мы можем сказать о
других фактах этого же рода. Эскироль передает нам следующее. «Историки
уверяют,— говорит он,— что перуанцы и мексиканцы, придя в отчаяние от
уничтожения их религиозного культа, лишали себя жизни в таком громадном
количестве, что их гораздо больше погибло от самоубийств, чем от огня и меча
жестоких завоевателей». Вообще, для того чтобы иметь право говорить о
подражании, недостаточно констатировать, что значительное количество
самоубийств было произведено одновременно и в одном и том же месте;
самоубийства в этом случае могут зависеть от одного и того же состояния данной
социальной среды, которое определяет коллективное предрасположение группы,
выражающееся в виде умножившегося числа самоубийств. В конце концов, может
быть, будет небесполезно для большей точности терминологии различать духовные
эпидемии от духовного заражения; эти два слова, употребляемые без различия одно
вместо другого, в действительности обозначают совершенно разнородные явления.
Эпидемия — явление социальное, продукт социальных причин; заражение состоит
всегда только из ряда более или менее часто повторяемых индивидуальных фактов. Это различие, будучи установлено
раз навсегда, имело бы, конечно, своим результатом уменьшение числа
самоубийств, приписываемых подражанию; несомненно, однако, что даже и в этом
случае эти последние оказались бы весьма многочисленными. Нет, может быть,
другого, настолько же заразительного явления. Даже импульс к убийству обладает
меньшей способностью передаваться; случаи, где наклонность к убийству
распространялась автоматически, менее часты, и в особенности роль, выпадающая
здесь на долю подражания, значительно меньше; можно сказать, что вопреки общему
мнению инстинкт самосохранения слабее укореняется в человеческом сознании, чем
основы нравственности, ибо под действием одних и тех же сил первый оказывается
менее способным к сопротивлению. Но, признав существование этих фактов, мы все
же оставляем открытым тот вопрос, который мы себе поставили в начале главы. Из
того обстоятельства, что стремление к самоубийству может переходить от одного
индивида к другому, еще не следует a priori, чтобы эта заразительность
вызывала социальные последствия, т. е. чтобы она влияла на социальный процент
самоубийств, на единственное интересующее нас в данный момент явление. Как бы
бесспорна она ни была, но вполне возможно, что последствия ее могут носить,
во-первых, только индивидуальный характер, а во-вторых, проявляться только
спорадически. Предшествующие замечания не разрешают вопроса, но они лучше
оттеняют его значение. В самом деле, если подражание, как говорят, представляет
собой первоначальный и особенно мощный источник социальных явлений, то свою
силу оно должно было бы прежде всего проявлять по отношению к самоубийству, так
как не существует другого факта, над которым оно в этом случае могло бы иметь
больше власти. Таким образом, самоубийство поможет нам проверить путем решающего
опыта реальность этой приписываемой подражанию чудесной силы. III Если это влияние действительно существует, то
оно должно было бы особенно сильно проявиться в географическом распределении
самоубийств. В некоторых случаях мы должны были бы наблюдать, что характерное
для данной страны число самоубийств, так сказать, передается и соседним
областям. Некоторые авторы усматривали подражание каждый раз, когда в двух или
нескольких департаментах наклонность к самоубийству проявлялась с одинаковой
интенсивностью. Между тем эта равномерность внутри одной и той же области
может зависеть исключительно от того, что известные причины, благоприятные для
развития самоубийства, одинаково распространены в ней, другими словами, от
того, что в данной области социальная среда всюду одна и та же. Для того чтобы
увериться в том, что наклонность или идея распространяются путем подражания,
надо проследить, как они выходят из той среды, где зародились, и захватывают
другие сферы, которые по природе своей не могли бы сами их вызвать. Мы уже
показали, что о распространении подражания можно говорить лишь постольку,
поскольку имитируемый факт сам по себе, без помощи других факторов,
автоматически вызывает воспроизводящие его действия. Следовательно, чтобы
определить роль, выполняемую подражанием в интересующем нас в данный момент
явлении, надо установить критерий более сложный, чем тот, которым обыкновенно
довольствуются. Прежде всего нет подражания там, где нет образца;
нет заражения без очага, из которого оно могло бы распространяться и где оно,
естественно, проявляло бы максимум своей интенсивности. Таким образом, только
тогда можно предположить, что самоубийство сообщается от одного общества
другому, если наблюдения подтвердят существование некоторых центров излучения.
Но по каким признакам можно их узнать? Прежде всего эти центры должны отличаться от
всех соседних пунктов большею наклонностью к самоубийству; на карте они должны
быть окрашены более темной краской, чем окружающая их среда. Ввиду того что
подражание оказывает там свое влияние одновременно с причинами, действительно
производящими самоубийства, общее число случаев не может не возрасти.
Во-вторых, для того, чтобы эти центры могли играть приписываемую им роль, и для
того, чтобы иметь право отнести на счет этого их влияния происходящие вокруг
них явления, надо, чтобы каждый из них был в некотором роде точкой прицела для
соседних стран. Ясно, что подражать данному явлению возможно лишь в том случае,
если оно всегда имеется на виду; если же внимание обращено не на этот центр,
то, несмотря на то что случаи самоубийства в нем очень многочисленны, они не
будут играть никакой роли, так как останутся неизвестными и, следовательно, не
будут воспроизводиться. Но население может фиксировать свое внимание только на
таком центре, который занимает в областной жизни важное место. Другими словами,
явления заражения более всего должны быть заметны кругом столиц и больших
городов. Мы тем скорее можем рассчитывать констатировать эти явления, что в
данном случае распространяющаяся сила подражания подкрепляется и усиливается
еще другими факторами, особенно моральным авторитетом больших центров, благодаря
которому все, освященное практикой крупных городов, находит себе самое рабское
поклонение. Именно здесь подражание должно вызывать социальные результаты,
если только оно вообще в состоянии их вызывать. Наконец, так как, согласно
всеобщему признанию, влияние какого бы то ни было примера ослабляется с
расстоянием, то окружающие области должны по мере удаления их от очага заразы
все слабее подвергаться заражению, и наоборот. Таковы те три минимальных
условия, которым должна удовлетворять карта самоубийств, для того чтобы хоть
частично можно было приписать подражанию ее внешний вид. И если бы даже
эти предварительные условия оказались выполненными, остается еще открытым вопрос,
не зависит ли данная карта от соответствующего распределения тех жизненных
условий, которыми непосредственно вызываются самоубийства. Установив эти
правила, применим их на деле. Что касается Франции, то существующие сведения,
где процент самоубийств указан обыкновенно только по департаментам, не могут
удовлетворить нас в этом смысле. И действительно, они не позволяют нам наблюдать
возможные результаты подражания там, где они должны были бы быть всего
чувствительнее, т. е. между различными частями одного и того же департамента.
Более того, присутствие округа, очень сильно или очень мало затронутого, может
искусственно повысить или понизить среднее число целого департамента и
создать, таким образом, мнимую грань между другими округами или, наоборот,
стушевать действительно существующую разницу. Наконец, влияние больших
городов настолько сглаживается, что его нелегко заметить. Что раньше всего
бросается в глаза, так это то, что наиболее темное пятно находится на севере,
главной своей частью охватывает старинный Jle-de-France, пробирается довольно далеко в Шампань и доходит
вплоть до Лотарингии. Если бы количество самоубийств зависело от подражания, то
фокус его должен был бы находиться в Париже, который является единственным
крупным центром в пределах всей этой области. И действительно, Парижу
обыкновенно приписывается здесь определяющая роль. Герри говорит даже, что
если подвигаться к столице от любой точки периферии страны (исключая Марсель),
то по мере приближения к Парижу мы будем наблюдать непрерывное возрастание
числа самоубийств. Но если карта, составленная по департаментам, дает видимость
правдоподобия такому пониманию интересующего нас явления, то карта округов
совершенно опровергает его. Оказывается, что в действительности в Seine процент самоубийств меньше, чем
в соседних округах; в первом насчитывается всего 471 случай на 1 млн жителей,
тогда как в Coulommiers —
500, в Vesaille — 5\4, Melun — 518, Меаих — 525, Corbeil— 559, Pontoise —
561, Provins — 562; даже округа в Шампань
значительно превышают по числу самоубийств ближайшие к Сене местности; в
Реймсе насчитывается 501 случай, в Епегпау
— 537, в Arcis-sur-Acube — 548; в Chateau-Thierry — 623. Уже доктор Leroy в своем труде «Les suicide en Seine-et-Marne» с удивлением заметил, что в округе Меаих число самоубийств относительно
больше, чем в Seine. Вот цифры, которые он нам
дает. Период 1851
— 1863 гг. 1865—1866
гг. И округ Меаих не является единственным в своем
роде. Тот же автор называет нам имена 166 коммун того же самого департамента,
где было больше случаев самоубийства, чем в Париже. Странную роль в качестве
главного очага играет в таком случае Париж, если уровень его значительно ниже
второстепенных очагов, которые он по назначению своему должен питать. Тем не
менее если оставить в стороне Сену, то невозможно заметить и никакого другого
центра, так как еще труднее заставить Париж тяготеть к Corbeit или к Pontoise. Немного далее на север замечается другое пятно,
не столь густое, но все-таки очень темного цвета,— оно падает на Нормандию.
Если бы количество самоубийств зависело от силы заражения, то оно должно бы
начинаться около Руана, столицы этой провинции и вообще крупного города. А
между тем два пункта этой области, где всего сильнее наблюдается явление
самоубийства,— это округа Neufchatel (509
случаев) и Pont Audemer (537 на 1 млн), причем они
даже и не смежны между собою. И однако, несомненно, что моральная физиономия
провинции отнюдь не определяется их влиянием. Совсем на юго-востоке, вдоль берега
Средиземного моря, мы находим обширную территорию, внешней границей которой
являются с одной стороны устье Роны, а с другой — Италия; в ней также
наблюдается большое количество самоубийств. На этой территории истинной
метрополией является Марсель, и, кроме того, мы имеем здесь большой центр
светской жизни— Ниццу; наиболее страдают от самоубийства округа Тулон и
Форкалькье, но никто не скажет, что Марсель оказывает на них влияние. То же
самое мы видим на западе; темным пятном выделяется Rochelort на непрерывно светлом фоне обеих Charentes, хотя
в этой области есть более значительный город — Angouleme. Вообще
существует большое количество департаментов, где не главный округ занимает на
шкале самоубийств главное место. В департаменте Vosges перевес имеет Remiretnont, а не Epinal; в Haute-Sadne — Gray, умирающий
и почти опустевший город, а не Versoul; в Doube —Dols и Poligny, а не Besancon; в Gironde не Bordeau, a la Reole и Bazas; в Maine-et-Loire — Saumar, а не Angerg; в Santhe— Saint-Calais, а не Le Mans; на севере — Avesne вместо Lille и т. д. Таким образом, ни в одном из этих случаев округ,
имеющий перевес, не содержит самого важного города в департаменте. Подобное сравнение желательно было бы произвести
не только по округам, но и по коммунам. К несчастью, нельзя составить
коммунальной карты самоубийств на всем протяжении Франции; но в своей
интересной монографии доктор Leroy сделал
эту работу по отношению к департаменту Seine-et-Marne. Классифицировав все коммуны
этого департамента согласно проценту совершаемых в них самоубийств, начиная с
тех, где он наиболее высок, он получил следующие результаты: «La Ferte-sour-Jouare (4482 жит.), первый значительный город этого района,
стоит на 127-м месте; Meaux (10762
жит.) — на 130-м месте; Provins (7347
жит.) — на 135-м месте; Coulommiers —
(4628 жит.)—на 138-м месте. Близость мест, занимаемых этими городами, очень
знаменательна, так как можно предположить, что они находятся под каким-нибудь
общим влиянием. Lagnu (3468
жит.), находящийся так близко от Парижа, занимает едва 219-е место; Montereau-Faut-Yonne (6217 жит.) — 245-е; Fontainebleau (11939 жит.) — 247-е. Наконец, Melun (11 170 жит.) — главный город департамента — занимает
только 279-е место. Наоборот, если рассмотреть 25 коммун, занимающих первые
места в данном списке, то, за исключением двух, они имеют незначительное
население». Выйдя из пределов Франции, мы можем констатировать
идентичные явления. Из всех стран Европы число самоубийств всего выше в Дании и
центральной Германии. В этой обширной зоне первое место, высоко над всеми
другими странами, занимает Королевство Саксония (311 случаев на 1 млн жителей).
Непосредственно за ней следует герцогство Саксен-Альтенбург (303
случая), тогда как Бранденбург насчитывает всего 204 случая. Между тем эти два
небольших государства отнюдь не сосредоточивают на себе взоров всей Германии.
Ни Дрезден, ни Альтенбург не задают тона Гамбургу или Берлину. Точно так же из
всех итальянских провинций число самоубийств всего выше в Болонье и Ливорно (88
и 84); далеко ниже их по среднему числу самоубийств, установленному Морселли
для 1864— 1876 гг., стоят Милан, Генуя, Турин и Рим. В конце концов все эти факты показывают нам,
что самоубийства вовсе не располагаются более или менее концентрически вокруг
известных пунктов, отправляясь от которых количество их прогрессивно уменьшалось
бы; наоборот, самоубийства располагаются большими, почти однородными (но только
почти) пятнами, лишенными всякого центрального ядра. Такая картина не
представляет собою никаких признаков влияния подражания. Она только указывает,
что самоубийство не зависит от местных обстоятельств, изменяющихся от города
к городу, но что определяющие его причины всегда носят некоторый общий
характер. В данном случае нет ни подражателей, ни тех, кому подражают, но
относительное тождество результатов зависит от относительного тождества
определяющих причин. И легко понять, что так и должно быть, раз — как мы уже
можем это предвидеть на основании предыдущего — самоубийство по существу своему
зависит от известного состояния социальной среды. Эта последняя обыкновенно
сохраняет тот же самый характер на очень большом пространстве территории, и
потому вполне естественно, что всюду, где она однородна, мы наблюдаем
идентичные последствия, без того чтобы заражение играло какую-нибудь роль. В силу
этого чаще всего случается, что в пределах одной и той же области процент
самоубийств держится на одинаковом уровне. Но с другой стороны, так как
вызывающие его причины не могут распределиться вполне однородно, иногда между
соседними округами существуют более или менее значительные колебания,
подобные тем, которые мы уже раньше констатировали. Основательность вышесказанного мнения доказывается
тем, что процент самоубийств резко изменяется каждый раз, когда круто
сменяются условия социальной среды; среда никогда не простирает своего влияния
за пределы своих собственных границ. Никогда страна, особенные социальные
условия которой специально предрасполагают к самоубийству, не распространяет в
силу одной только заразительности примера своей наклонности на соседние страны,
если те же или подобные условия не влияют на эту последнюю с тою же силой.
Самоубийство носит местный (эндемический) характер в Германии, и мы уже видели,
с какой силой оно там проявляется; дальше мы покажем, что протестантизм есть
главная причина этой чрезвычайно высокой наклонности к самоубийству. Три
области составляют исключение из этого правила: рейнские провинции с
Вестфалией, Бавария, в особенности швабская Бавария, и, наконец, Познань; это
единственные места во всей Германии, которые насчитывают меньше 100 случаев на
1 млн жителей. Они кажутся тремя затерянными островками, и обозначающие их
светлые пятна резко выделяются на фоне окружающей темной краски; причиной этого
является католическое население, а потому поветрие самоубийств,
распространяющееся вокруг них с такою интенсивностью, не затрагивает их; оно
останавливается на их границе только в силу того, что за этим пределом оно не
находит причин, благоприятствующих его развитию. Точно так же на юге Швейцарии
население исключительно католическое — протестанты сконцентрировались на
севере. Можно даже подумать, что они принадлежат разным
странам. Хотя они и соприкасаются друг с другом со всех сторон и находятся
между собою в непрерывном общении, каждая из них сохраняет по отношению к
самоубийству свою индивидуальность, и среднее число настолько же высоко в
одной, насколько низко в другой. Аналогичное явление мы наблюдаем в Северной
Швейцарии, заключающей в себе католические кантоны Люцерн, Ури, Унтерваль-ден,
Швиц и Цуг, которые насчитывают самое большее 100 случаев самоубийств на 1 млн
жителей, хотя окружены кантонами с протестантским населением, среди которого
самоубийства совершаются несравненно чаще. Можно произвести и еще один опыт, который, как
мы думаем, послужит только к подтверждению предыдущего. Явление морального
заражения может распространяться двояко: или факт, служащий образцом,
передается из уст в уста через посредство так называемого общественного
мнения, или его распространяют газеты. Обыкновенно оказывают влияний в
особенности последние, и нельзя не признать, что они действительно являются
могучим орудием распространения идей. Если подражание и играет какую-фтбудь
роль в развитии самоубийств, то число, последних должно колебаться в
зависимости от того места, которое газета занимает в общественном внимании. К несчастью, трудно определить значение прессы.
Не число периодических изданий, а количество читателей может измерить
интенсивность их влияния. В стране, так мало централизованной, как Швейцария,
газет может издаваться большое количество, так как каждое местечко имеет свой
местный орган, но, поскольку каждый из них имеет очень небольшое количество
читателей, влияние его на местную психику ничтожно; и наоборот, одна такая
газета, как Times, New-York Gerald, Petit Journal и т. д., оказывает влияние на необъятное количество
людей. Вообще, по-видимому, пресса не способна оказывать того влияния, которое
ей приписывают, вне известной централизации самой страны. Там, где в каждой
области существует своя особая жизнь, все лежащее далее горизонта местного поля
зрения не интересует людей; факты отдаленные протекают незамеченными, и по той
же причине сведения о них менее тщательно собираются, а следовательно, в
наличности имеется меньше примеров, вызывающих подражание. Совершенно другую
картину представляют собою те области, в которых нивелировка местной среды
открывает любопытству и сочувствию более обширное поле действия, и где в ответ
на эти требования большие ежедневные органы собирают сведения обо всех важных
событиях родины и соседних стран для того, чтобы затем рассылать о них известия
по всем направлениям. Примеры, собранные вместе, в силу своего накопления
взаимно усиливают друг друга. Но легко понять, что почти невозможно сравнить
число читателей различных европейских газет, а в особенности определить, насколько
местный характер носят даваемые ими сведения. Хотя мы не можем подкрепить наше
утверждение никакими документальными доказательствами, нам трудно согласиться
с тем, чтобы в этих двух отношениях Франция и Англия уступали Дании, Саксонии и
даже некоторым странам, входящим в состав Германии, а между тем число
самоубийств там значительно меньше. Точно так же, не выходя из пределов
Франции, нет никакого основания предполагать, что к югу от Луары меньше читают
газет, чем к северу от нее, хотя хорошо известно, какой существует контраст
между севером и югом Франции в процентном отношении самоубийств. Не желая
приписывать незаслуженного значения аргументу, который мы не можем обосновать
точно установленными фактами, мы все же полагаем, что он достаточно
правдоподобен для того, чтобы заслуживать некоторого внимания. IV В заключение можно сказать, что если факт
самоубийства может передаваться от одного индивида к другому, то тем не менее
не было еще замечено, чтобы сила подражания оказала влияние на социальный
процент самоубийств. Она легко может рождать более или менее многочисленные
случаи индивидуального характера, но не в состоянии служить объяснением
неравной степени наклонности к самоубийству у различных стран и внутри каждого
общества у частных социальных групп. Действие этой силы всегда очень ограничено
и, кроме того, носит перемежающийся характер. Если подражание и достигает
известной степени интенсивности, то только на очень короткий промежуток
времени. Но существует причина гораздо более общего характера,
которая объясняет, почему результаты подражания не отражаются на
статистических цифрах. Дело в том, что предоставленное только самому себе, ограниченное
только своими собственными силами, подражание не может иметь для самоубийства
никакого значения. У взрослого человека, за очень небольшим количеством случаев
более или менее абсолютного моноидеизма, мысль о каком-либо действии не служит
достаточным основанием для того, чтобы вызвать отвечающий ей поступок, если
только тот индивид, в голову которого пришла данная мысль, сам по себе не чувствует
особого предрасположения к соответственному акту. «Я всегда замечал,— говорит
Морель,— что как бы ни было велико влияние, оказываемое подражанием, но одного
впечатления, произведенного рассказом или чтением о каком-нибудь выдающемся
преступлении, еще недостаточно для того, чтобы вполне здоровых умственно людей
толкнуть на подобный же поступок». Точно так же доктор Paul Morequ de Tours полагает, что заразительная сила самоубийства оказывает
воздействие только на людей, сильно к нему предрасположенных. Правда, по его
мнению, это предрасположение по существу своему зависит от органических
причин; поэтому ему было бы довольно трудно объяснить некоторые случаи, которым
нельзя приписать такого происхождения, если не допустить невероятной и почти
чудесной комбинации условий. Как можно поверить тому, что 15 инвалидов, о
которых мы уже говорили, были все подвержены нервному вырождению? То же самое
можно сказать о фактах заражения, так часто наблюдаемых в армии или в тюрьмах.
Но эти факты делаются легкообъяснимыми, как только мы признаем, что наклонность
к самоубийству может зародиться под влиянием социальной среды, в которую попал
индивид. Тогда мы имеем право приписать факты самоубийства не какому-то
необъяснимому случаю, который собрал в одну и ту же казарму или один и тот же
дом заключения значительное число индивидов, охваченных одинаковым психическим
расстройством, но находим объяснение в воздействии общей среды, окружающей этих
людей. И действительно, мы увидим, что в тюрьмах и полках существует коллективное
состояние, склоняющее к самоубийству солдат и заключенных с такою же
непосредственностью, как и сильнейший из неврозов. Пример здесь — только
случайный повод, вызывающий проявление импульса, и без наличности этого
импульса пример не оказал бы никакого влияния. Можно поэтому сказать, что, за очень небольшими
исключениями, подражание не является самостоятельным фактором самоубийства;
посредством него проявляется только то состояние, которое есть действительная
производящая причина самоубийства и которое, вероятно, всегда нашло бы
возможность произвести свое естественное действие. Это последнее обнаружилось
бы даже в том случае, если бы не было налицо подражания, так как очевидно, что
предрасположение должно быть исключительно сильно для того, чтобы столь малый
повод мог вызвать его проявление в действии. Поэтому неудивительно, что факты
не носят на себе печати подражания; ведь само оно не оказывает решающего
влияния; а то действие, которое им оказывается, ограничено очень узкими
пределами. Одно замечание практического
характера может быть выдвинуто здесь как следствие этого теоретического
вывода. Некоторые авторы, приписывая подражанию влияние, которого оно не имеет
в действительности, требовали, чтобы описание самоубийств и преступлений было
запрещено в газетах. Возможно, что это запрещение уменьшило бы на несколько
единиц годовой итог этих явлений, но подлежит большому сомнению, чтобы оно
могло изменить социальный процент преступлений и самоубийств. Интенсивность
коллективной наклонности осталась бы той же, так как моральный уровень
социальных групп от этого не изменился бы. Если принять во внимание те
проблематичные и, во всяком случае, очень слабые результаты, которые могла бы
иметь эта мера, и те значительные неудобства, которые повлекло бы за собой
уничтожение всякой судебной гласности, то будет вполне понятно, что в данном
случае законодатель должен отнестись к совету специалистов с большим
сомнением. В действительности если что и может повлиять на развитие самоубийств
или уголовной преступности, так не то, что о них вообще говорят, а то, как о
них говорят. Там, где эти акты находят себе полное осуждение, вызываемое ими
чувство отражается на самих отчетах о них, и путем такого внушения индивидуальное
предрасположение скорее нейтрализуется и обезвреживается, нежели поощряется.
Наоборот, когда общество в моральном отношении лишено всякой опоры, состояние
неуверенности, в котором оно находится, внушает ему некоторую снисходительность
к безнравственным поступкам; снисходительность эта невольно выражается каждый
раз, когда говорят о них, и тем самым сглаживает границу между дозволенным и недозволенным.
Тогда действительно приходится опасаться каждого дурного примера не потому,
что он опасен как таковой, а потому, что терпимость или общественный
индифферентизм приуменьшают то чувство отвращения, которое он должен был бы
вызывать. Но эта глава с особенной ясностью
показывает, как мало обоснована теория, делающая подражание важным источником
всей коллективной жизни. Нет явления, более легко передаваемого путем
заражения, чем самоубийство, а между тем мы только что видели, что эта
заразительная сила не имеет социальных последствий. Если в этом случае
подражание лишено социального влияния, то оно не имеет его и в других случаях,
и приписываемое ему значение только кажущееся. Конечно, в очень тесной сфере
оно может явиться определяющим мотивом нескольких воспроизведений одной и той
же мысли или одного и того же поступка, но оно никогда не находит себе ни
достаточно широкого, ни достаточно глубокого отзвука для того, чтобы проникнуть
в самую душу общества и произвести в ней изменения. Коллективные состояния
благодаря почти единодушному и обыкновенно многолетнему признанию слишком
упорны для того, чтобы какое-нибудь частное новшество могло достигнуть своей
цели. Каким образом индивид, который — только индивид, и ничего больше, мог бы
получить достаточно силы для переделки общества на свой лад? Если бы мы не
представляли себе социальный мир так же грубо, как первобытный человек представлял
себе мир физический, если бы наперекор всем выводам науки мы, в глубине души
и не отдавая себе в том отчета, не отрицали, что социальные явления прямо
пропорциональны вызвавшим их причинам, то мы даже не остановились бы на
концепции, которая хотя и обладает истинно библейской простотой, но находится
в вопиющем противоречии с основными принципами мышления. В настоящий момент
больше уже не верят, что зоологические виды суть не что иное, как
индивидуальные изменения, привитые и распространенные наследственностью. Насколько
не более допустима теория, утверждающая, что социальный факт представляет собою
только обобщенный факт индивидуального характера; но менее всего приемлемо
предположение, что эта общность зависит от какой-то слепой силы заражения.
Можно даже с полным и справедливым изумлением отнестись к тому, что еще
необходимо оспаривать гипотезу, которая до сих пор вызывала только возражения,
но не получила ни малейшего подтверждения. Никогда еще не было доказано по
отношению к определенному ряду социальных фактов, что подражание играло в них
известную роль, и еще меньше доказано, что оно одно могло бы объяснять
какие-либо факты. Обыкновенно довольствовались тем, что высказывали эту
гипотезу в форме афоризма, опираясь при этом на смутные метафизические
предпосылки. Между тем социология может претендовать на то, чтобы на нее
смотрели как на науку, только в том случае, если те, кто ее разрабатывает, не
будут устанавливать догматов, освобождая себя от обязанности их доказывать. КНИГА II СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫГлава I. Метод их определения Глава II. Эгоистическое самоубийство Глава III. Эгоистическое самоубийство (продолжение) Глава IV. Альтруистическое самоубийство Глава V. Анемичное самоубийство Глава VI. Индивидуальные формы различных видов самоубийств ГЛАВА I. МЕТОД ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯРезультаты предыдущей книги носят не только
отрицательный характер. Мы установили в ней, что в каждой социальной группе
существует совершенно специфическая наклонность к самоубийству, необъяснимая
ни физико-органическим строением индивидов, ни физической природой окружающей
их среды. Отсюда по методу исключения вытекает, что наклонность эта неизбежно
должна зависеть от социальных причин и представлять собой коллективное явление;
некоторые рассмотренные нами факты, в особенности же географические и сезонные
колебания процента самоубийств, привели нас именно к такому заключению. Эту
наклонность мы должны теперь изучить ближе и более тщательно. I Для того чтобы достигнуть намеченной нами цели,
всего лучше, как кажется, будет рассмотреть сначала, представляет ли
интересующая нас наклонность явление простое, неразложимое или же состоит из
целой совокупности различных наклонностей, которые можно расчленить анализом и
следует изучать в отдельности. Мы предлагаем в данном случае избрать нижеследующий
путь. Является ли наклонность к самоубийству по существу своему единой или нет
— все равно наблюдать ее мы сможем только путем индивидуальных случаев, и
потому эти последние надо взять отправной точкой нашего анализа. Следует рассмотреть
возможно большее число самоубийств, конечно, помимо тех случаев, когда оно
вызвано психическим расстройством, и дать им всем подробное описание. Если
окажется, что все они по существу обладают одними и теми же признаками, то мы
поместим их в один и тот же класс; в противном, и гораздо более вероятном,
случае — ведь самоубийства слишком различны по своему характеру, чтобы не
распадаться на разновидности,— надо будет установить известное число видов,
основываясь на сходстве и различии конкретных фактов самоубийства. Сколько
будет установлено различных типов самоубийств, столько же придется признать
тех обособленных тенденций к самоубийству, причины и относительную важность
которых мы хотим здесь выяснить. Мы следовали приблизительно этому методу,
когда самым беглым образом рассматривали самоубийство умалишенных. К несчастью,
классификация сознательных самоубийств по их формам или морфологическим признакам
практически неосуществима, так как необходимые для этого данные почти целиком
отсутствуют. Для реализации подобной попытки потребовалось бы точное описание
большого количества частных случаев самоубийства; надо было бы узнать, в каком
психическом состоянии находился самоубийца в момент своего решения покончить с
собой, как он приготовлялся к его выполнению и как осуществил его в последнюю
минуту; надо знать, находился ли он в возбужденном или подавленном состоянии,
был ли он спокоен или взволнован, охвачен тоскою или раздражен и т. д. У нас
почти нет указаний подобного рода, исключая некоторые случаи самоубийства
умалишенных, которые нам известны благодаря наблюдениям и описаниям
психиатров, установивших главные типы таких самоубийств, где определяющей
причиной служит безумие. Что же касается других случаев, то мы лишены о них
почти всяких сведений. Один только Brierre de Boismont пытался выполнить эту задачу и составил описание 328
случаев самоубийства, в которых самоубийцы оставляли после себя письма или
записки, использованные автором в его книге. Но прежде всего подобная сводка
материала не исчерпывает вопроса; а затем признания, касающиеся предсмертного
состояния, сделанные самим самоубийцей, чаще всего крайне недостаточны, если
только не возбуждают сомнения в своей искренности. Человек так легко ошибается
относительно самого себя и относительно природы своего настроения: ему,
например, кажется, что он действует вполне хладнокровно, тогда как он находится
на высшей ступени возбуждения. Наконец, помимо того что эти данные
недостаточно объективны, они относятся к такому небольшому количеству фактов,
что из них нельзя вывести вполне точных заключений. Мы можем в самых общих
чертах наметить некоторые демаркационные линии и постараемся использовать все
вытекающие из них выводы, хотя они и слишком неопределенны для того, чтобы
послужить основанием для правильной классификации. Наконец, принимая во
внимание самую обстановку, при которой совершается большинство самоубийств,
нужно признать, что необходимые для нас наблюдения почти неосуществимы. Но для достижения нашей цели мы можем идти
другим путем; для этого достаточно будет изменить порядок нашего изыскания. В
самом деле, различные типы самоубийств могут вытекать только из различных
определяющих причин. Каждый из этих типов может иметь свою особую природу лишь
в том случае, если имеются налицо специфические условия его осуществления.
Одно и то же обстоятельство или стечение обстоятельств не может вызывать то
одно, то другое последствие, так как иначе разность результатов была бы не
объяснима и являлась бы отрицанием принципа причинности. Поскольку мы можем
констатировать специфическое различие между причинами, постольку мы должны
ожидать подобного же различия между последствиями. Исходя из этого положения,
мы можем установить социальные типы самоубийств не путем непосредственной
классификации, опирающейся на предварительное описание их характерных особенностей,
а классифицируя самые причины, вызывающие их. Не касаясь вопроса, почему они
различаются, мы прежде всего исследуем, каковы те социальные условия, от
которых они зависят. Затем мы сгруппируем условия по их сходству и различию в
отдельные классы и можем быть тогда уверенными в том, что каждый такой класс
будет соответствовать определенному типу самоубийств. Одним словом, наша
классификация будет этиологической, вместо того чтобы быть только
морфологической. Подобный результат в качественном отношении нисколько не
ниже, так как мы можем гораздо глубже проникнуть в природу явления в том
случае, если нам известна его причина, чем в том случае, если известны только
его признаки, хотя бы и самые существенные. Правда, у этого метода есть тот недостаток, что он постулирует различие типов, не описывая их непосредственно; он может определить самый факт существования типов, число их, но не характерные их признаки. К счастью, у нас есть способ, который может помочь нам хотя бы до некоторой степени пополнить этот пробел. Если нам известна природа причин, производящих то или иное явление, то легко умозаключить о природе последствий, которые, таким образом, сразу будут характеризованы и классифицированы именно тем, что мы сведем их к их источникам. Правда, если бы эта дедукция не
руководствовалась фактами, то она могла бы привести к совершенно фантастическим
комбинациям. Но мы можем осветить ее с помощью некоторых имеющихся у нас
указаний Со всех точек зрения этот обратный метод
оказывается единственным, отвечающим требованиям поставленной нами социальной
проблемы. Не надо забывать, что изучаемый нами предмет—это социальный, процент
самоубийствен потому нас должны интересовать только те типы, которые оказывают
на него влияние, в зависимости от которых он изменяется. Между тем не все
индивидуальные разновидности добровольных смертей обладают этим свойством.
Некоторые виды самоубийства, будучи достаточно распространенными, или не
связанными вовсе с моральным темпераментом общества, или недостаточно тесно
связанными с ним для того, чтобы представлять собою характерный элемент того
особенного облика, которым обладает каждый народ с точки зрения наклонности к
самоубийству. Мы видели выше, что алкоголизм не относится к числу факторов, от
которых зависит специфическая для каждого общества наклонность к самоубийству;
и однако, не подлежит сомнению, что довольно большое количество самоубийств
совершается на алкоголической почве. Даже самое подробное и точное описание
частных случаев не поможет нам определить, какие именно из них носят социологический
характер. Если хотят узнать, из каких элементов состоит самоубийство,
рассматриваемое как коллективное явление, то с самого начала нужно исследовать
его в его коллективной форме, т. е. путем статистических данных. Предметом анализа надо взять
непосредственно социальный процент самоубийств и идти от целого к частям. Ясно,
что анализировать этот процент можно только по отношению к различным вызывающим
его причинам, так как сами по себе единицы, из которых он состоит, совершенно
однородны по качеству и ничем одна от другой не отличаются. Поэтому, не теряя
времени, следует приступить к определению этих причин, а затем перейти к тому,
как они отражаются на индивидах. Но каким образом можно
исследовать эти причины? В протоколах, составляемых по поводу каждого самоубийства,
указывают между прочим ту побудительную причину (семейное горе, физическое или
какое-либо другое страдание, угрызение совести, пьянство и т. д.), которая,
по-видимому, была его определяющим мотивом; и почти в каждой стране в статистических
отчетах есть специальная таблица, где сведены результаты такого исследования
под заголовком: «Предполагаемые мотивы самоубийства». Казалось бы, всего
естественнее воспользоваться этой уже готовой работой и начать наше изыскание
сравнением этих документов. В самом деле, они указывают нам, по-видимому, на
обстоятельства, непосредственно предшествовавшие совершению различного рода
самоубийств; не будет ли поэтому вполне правильным методом обратиться для
объяснения изучаемого нами явления к этим наиболее близким причинам, с тем
чтобы затем в случае надобности перейти к ряду других. Но, как уже очень давно заметил
Вагнер, то, что называется статистикой мотивов самоубийств, есть на самом
деле не что иное, как статистика тех мнении, которые составляют себе по поводу
этих мотивов чины, зачастую низшие чины полиции, обязанные собирать
соответственные сведения. К несчастью, известно, что
официальные сведения бывают очень часто извращенными и неполными даже тогда,
когда касаются только материальных и очевидных сторон факта, доступных всякому
добросовестному наблюдателю и не нуждающихся ни в какой оценке. Тем большее
сомнение должны вызывать эти сведения, когда своей задачей они имеют не простую
регистрацию происшествий, а понимание и объяснение их. Определение причины
какого-нибудь явления всегда является очень трудной проблемой; даже ученому
нужен целый ряд наблюдений и экспериментов для того, чтобы разрешить хотя бы
один из вопросов подобного рода. К тому же проявления человеческой воли
принадлежат к числу самых сложных явлений. Легко понять, как мало ценности
могут иметь для нас эти зачастую импровизированные мнения полиции, составляющиеся
на основании поспешно собранных справок и в то же самое время претендующие на
указание определенной причины каждого частного случая. Как только оказывается,
что в прошлом самоубийцы можно найти факты, которые, по господствующему
убеждению, способны привести человека к полному отчаянию, всякие дальнейшие
поиски причин прекращаются, и, смотря по тому, какие обстоятельства
установлены, т. е. претерпел ли человек денежные потери, или семейное горе,
или имел наклонность к спиртным напиткам, самоубийство приписывается либо
пьянству, либо домашним неурядицам, либо расстройству в делах. Каждый понимает,
что нельзя в основание объяснения самоубийства класть такие сомнительные
сведения. Мало того, даже если бы они
заслуживали большей веры, то и тогда не оказали бы нам значительной помощи,
потому что определяющие мотивы, которым, правильно или неправильно,
приписывается самоубийство, в действительности не являются настоящими его
причинами. Доказательством этого утверждения является то обстоятельство, что
относительное число случаев, приписываемое статистикой каждой из этих предполагаемых
причин, остается почти неизменным, тогда как абсолютные числа, наоборот,
подвергаются очень значительному изменению. Во Франции начиная с 1856 до
1878 г. число самоубийств увеличивается приблизительно на 40%, а в Саксонии —
больше чем на 100% в течение периода 1854—1880 гг. (1171 случай вместо 547). А
между тем в этих двух странах каждая категория мотивов в продолжение всех
периодов сохраняет то же самое влияние. Если считать существующие
сведения лишь грубо приблизительными и если поэтому не приписывать большого
значения их небольшим изменениям, то можно признать их довольно постоянными.
Но, для того чтобы каждая часть, приписываемая той или иной причине, оставалась
неизменной, в то время как удвоилось общее число самоубийств, необходимо допустить,
что каждая из этих частей также возросла вдвое. Здесь не может быть речи о
случайном стечении обстоятельств, поскольку все причины одновременно вызывают
вдвое большую смертность. Волей или неволей приходится прийти к тому
заключению, что все они поставлены в зависимость от какого-то более общего
условия, влияние которого они в лучшем случае только приблизительно отражают
на себе. Именно это общее условие делает их более или менее продуктивными в
смысле числа самоубийств и поэтому служит истинной определяющей причиной этого
последнего. Поэтому нам необходимо прежде всего познакомиться с этим условием,
не останавливаясь на тех отдаленных его отголосках, которые могут наблюдаться в
сознании отдельных индивидов. Другой заимствуемый нами у Legoyt факт указывает еще лучше на то, к чему сводится причинное воздействие этих различных мотивов. Не существует более разнородных занятий, чем земледелие и свободные профессии. Жизнь артиста, ученого, адвоката, чиновника ничем не напоминает жизнь человека, занимающегося земледельческим трудом; поэтому можно с достоверностью сказать, что социальные причины самоубийства не будут однородными для тех и других. А между тем в этих двух социальных категориях самоубийства не только приписываются одинаковым мотивам, но взаимоотношения различных причин почти не отличаются друг от друга в обоих случаях. Мы приводим здесь за период 1874—1878 гг. процентное отношение главных мотивов самоубийств в этих двух профессиях для Франции.
За исключением пьянства и запоя, цифры,
особенно высокие, очень мало отличаются между собою в этих двух столбцах.
Основываясь на одном рассмотрении мотивов, можно было бы подумать, что в этих
двух случаях причины, вызывающие самоубийство, если и не обладают одинаковой
интенсивностью, то по крайней мере одинаковы по своей природе. А между тем
совершенно разнородные силы толкают на самоубийство примитивного землероба и
утонченного горожанина. Таблица доказывает только то, что мотивы,
приписываемые самоубийцей самому себе, не дают объяснения его поступку и в
действительности являются в большинстве случаев лишь кажущимися причинами.
Они представляют собой не что иное, как индивидуальное отражение общего
условия, к тому же очень неправильное, так как оно остается неизменным, когда
это условие коренным образом меняется. Можно сказать, что они указывают на те
слабые стороны индивида, благодаря которым внешнее влияние, толкающее его на
самоубийство, с большей легкостью проникает в его психику, но не входят в
состав этого внешнего влияния и поэтому не смогут нам помочь понять
интересующее нас явление. Мы поэтому нисколько не сожалеем, что некоторые страны вроде Англии или Австрии отказываются от собирания этих сведений относительно предполагаемых причин самоубийства. Усилия статистики должны обратиться совсем в другую сторону: вместо того чтобы стараться разрешить недоступные проблемы моральной казуистики, надо, чтобы статистика с большей точностью регистрировала соприсутствующие самоубийству социальные условия. Во всяком случае, мы поставили себе за правило не допускать в наши исследования вмешательства таких сомнительных и малопригодных сведений; ученым, занимавшимся изучением вопроса о самоубийстве, никогда не удавалось извлечь из этих сведений никакого интересного закона. Поэтому мы будем обращаться к их содействию только тогда, когда к этому побудит нас какой-либо специальный интерес и когда их достоверность в данном частном случае чем-либо гарантирована. Не касаясь вопроса о том, в какой форме могут у отдельных индивидов выражаться причины, производящие самоубийство, мы непосредственно обратимся к определению этих последних. Оставив в стороне индивида как индивида, его мотивы и идеи, мы прямо спросим себя, каковы те различные состояния социальной среды (религиозные верования, семья, политическая жизнь, профессиональные группы и т. д.), под влиянием которых изменяется процент самоубийств. И только затем, возвращаясь к отдельным лицам, мы рассмотрим, каким образом индивидуализируются эти общие причины, вызывая конкретные акты самоубийства. ГЛАВА II. ЭГОИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВОРассмотрим, каким образом различные вероисповедания влияют
на самоубийство. I Если посмотреть на европейскую картину самоубийств, то с первого взгляда бросится в глаза, что в чисто католических странах, как-то в Италии, Португалии и Испании, самоубийства развиты очень мало, тогда как максимум их наблюдается в протестантских странах, в Пруссии, Саксонии и Дании. Нижеследующие средние цифры, выведенные Морселли, подтверждают это первое впечатление. Среднее число самоубийств на 1 млн жителей: Государства протестантские 190 " смешанные (прот. и кат.) 96 " римско-католические 58 " греко-католические 40 Впрочем, низкий уровень
самоубийств у греко-католиков не может быть с уверенностью приписан влиянию
религии, так как цивилизация этих стран резко отличается от цивилизации других
европейских наций, а следовательно, эти культурные различия и могут оказаться
причиной неодинаково выраженной наклонности к самоубийству. Но нельзя сказать
того же самого относительно большинства католических и протестантских обществ.
Бесспорно, не все эти страны находятся на одинаковом моральном и
интеллектуальном уровне, но сходство между ними настолько велико, что мы имеем
некоторое право приписать различию вероисповедного культа тот очевидный контраст,
который они собой представляют по отношению к самоубийству. Это первое сравнение носит,
однако, слишком суммарный характер; несмотря на свое несомненное сходство, та
социальная среда, в которой живет население этих различных стран, не вполне
однородна. Цивилизация Испании и Португалии во многом уступает Германии, и
это обстоятельство может быть причиной того, что развитие самоубийства в них
неодинаково. Для того чтобы избежать этой ошибки и с большей достоверностью
определить влияния католичества и протестантизма на наклонность к самоубийству,
надо сравнить роль этих двух религий внутри одного и того же общества. Среди больших государств,
входящих в состав Германской империи, наименьшее число самоубийств приходится
на долю Баварии. Там едва насчитывается до 90 годовых случаев на 1 млн жителей
начиная с 1874 г., тогда как в Пруссии в 1871 —1875 гг. их было 133, в
герцогстве Баденском — 156, в Вюртемберге — 162, в Саксонии — 300; в то же
время именно здесь более всего католиков: 713,2 на 1000 жителей. Если мы, с
другой стороны, сравним различные провинции этого королевства, то увидим, что
число самоубийств прямо пропорционально числу протестантов и обратно
пропорционально числу католиков. Вышеизложенный закон
подтверждается не только соответствием средних чисел, но все числа первого
столбца превышают числа второго, а числа второго превышают числа третьего, без
всякого исключения. То же самое мы видим и в Пруссии. В 14 сопоставленных
провинциях мы имеем только два незначительных исключения: Силезия, которая в
силу относительно высокого числа самоубийств должна была бы стоять во втором
столбце, находится только в третьем, тогда как, наоборот, Померания стоит в
первом столбце, в то время как ее место должно бы быть во втором. В этой стране встречается и
немецкое, и французское население, и потому в ней можно наблюдать в отдельности
влияние культа каждой из этих двух рас. Католические кантоны независимо от
национальности их населения дают в 4 или в 5 раз меньше самоубийств, чем
протестантские. Следовательно, влияние религии так велико, что превышает всякое
другое. Мы видим, что везде, без всякого
исключения, среди протестантов насчитывается большее число самоубийств, чем
среди населения других вероисповеданий. Отклонения наблюдаются между минимумом
в 20— 30% и максимумом в 300%. Напрасно Мауг против такой
согласованности фактов приводит исключение в лице Норвегии и Швеции, где хотя
население и протестантское, но число самоубийств невелико. Прежде всего, как
мы уже заметили в начале этой главы, эти международные сравнения недостаточно
убедительны, если они не относятся к большому числу сравниваемых стран; но даже
и в этом последнем случае они не могут играть большой роли. Между жителями
Скандинавского полуострова и населением Центральной Европы существует слишком
явное различие, вследствие чего протестантизм, естественно, не в состоянии
оказывать на тех и других вполне одинакового влияния. Кроме того, хотя сам по
себе процент самоубийств в этих двух странах недостаточно высок, он все же
представляется относительно довольно значительным, если принять во внимание то
скромное место, которое занимают эти страны среди цивилизованных народов
Европы. Нет никакого основания предполагать, что эти народы находятся на более
высоком интеллектуальном уровне, чем Италия, хотя в них население лишает себя
жизни в 2—3 раза больше (вместо 40—67. 90—100 случаев на 1 млн жит.). Не
является ли протестантство определяющей причиной этого относительного
возрастания? Таким образом, данный факт не только не подрывает установленного
нами закона, но, напротив, служит его подтверждению. Что касается евреев, то их
наклонность к самоубийству всегда слабее, чем у протестантов; в большинстве
случаев она слабее также, хотя и в меньшей пропорции, чем у католиков. Но тем
не менее случается, что это последнее соотношение нарушается, особенно в новейшее
время. Вплоть до половины XIX
в. евреи лишали себя жизни меньше, чем католики всех стран, исключая Баварию;
только начиная с 1870 г. они стали утрачивать свою привилегию в этом отношении,
но и то очень редко случается, чтобы число самоубийств среди евреев было многим
выше, чем среди католиков. Не надо забывать, что евреи более, чем какие бы то
ни было другие вероисповедные группы, живут в городах и занимаются
интеллигентными профессиями. В связи с этим у них наклонность к самоубийству
должна развиться сильнее, чем в людях, исповедующих другие веры, под влиянием
причин, не зависящих от религии. Раз, не смотря на это отягощающее
влияние, процент самоубийц иудейского вероисповедания так слаб, то если бы
положение евреев было одинаково со всеми другими народностями, эта религия
давала бы, несомненно, всего меньше самоубийств. Перейдем теперь к объяснению
установленных фактов. II Если вспомнить, что повсюду евреи
являются ничтожным меньшинством и что почти во всех подвергшихся наблюдению
странах в меньшинстве оказались и католики, то естественно и соблазнительно
именно в этом обстоятельстве видеть причину относительно малого количества
добровольных смертей среди этих двух культов. Нельзя не признать того факта,
что наименее многочисленные культы в стране, принужденные бороться против
враждебности окружающего их населения, обязаны для поддержания своего
существования установить в своей среде суровый контроль и подчиниться
исключительно строгой дисциплине. Для того чтобы оправдать оказываемую им
терпимость, к тому же крайне непрочную, им приходится развивать в себе особенно
высокую нравственную устойчивость. Помимо этих общих соображений
некоторые факты действительно подтверждают, что этот специальный фактор имеет
известное влияние на процент самоубийств. В Пруссии мы имеем резко выраженное
католическое меньшинство: католики составляют только '/ общего населения и
лишают себя жизни в 3 раза меньше, чем протестанты. Разница эта уменьшается в
Баварии, где / населения — католики; число добровольных смертей3среди
этих последних относится к числу самоубийств среди протестантов как 100 к 275,
а в некоторые периоды даже как 100 к 238. Наконец, в Австрии, почти всецело
католической стране, на 155 случаев самоубийства среди протестантов приходится
100 случаев среди католиков. Поэтому кажется, что там, где протестанты
составляют меньшинство, наклонность к самоубийству вообще уменьшается. Но во-первых, самоубийство
встречает, вообще говоря, очень снисходительное отношение к себе; и боязнь
легкого порицания едва ли может оказать на него такое сильное
воздействие, даже если дело идет о меньшинстве, положение которого заставляет
обращать усиленное внимание на общественное мнение. Самоубийство является
актом, никого собой не задевающим, и потому обилие самоубийств не приносит
никакого ущерба той группе, которая более других предрасположена к нему, и не
может восстановить общество против этой группы, как это было бы, без сомнения,
при наличности в ней большого числа убийств и преступлений. Кроме того,
религиозная нетерпимость, когда она особенно сильно выражена, приводит часто к
обратным результатам. Вместо того чтобы заставить диссидентов более уважать
мнение большинства, она побуждает их совершенно не считаться с этим последним.
Когда люди чувствуют себя под гнетом непобедимой враждебности, то у них пропадает
всякая охота бороться с нею, и сплошь да рядом гонимые элементы лишь с большим
упорством начинают отстаивать в своих нравах и обычаях как раз то, что вызывает
особенное порицание. Именно это и происходило чаще всего среди евреев, и
поэтому подлежит большому сомнению, чтобы их исключительное преимущество в
смысле самоубийства не имело других причин, кроме относительной малочисленности. Во всяком случае, этого
объяснения недостаточно для понимания взаимоотношения между католиками и
протестантами. Если в Австрии и Баварии, где преобладает католицизм,
оказываемое им умеряющее влияние на развитие самоубийств действует с меньшей
интенсивностью, то все же оно еще очень значительно; значит, своим влиянием
католицизм обязан не тому, что в некоторых странах он является меньшинством.
Какова бы ни была относительная часть каждого из этих двух культов в общей
массе населения, всюду, где удалось сравнить их влияние на самоубийство, можно
было констатировать тот факт, что протестанты лишают себя жизни значительно
чаще, чем католики. Есть даже страны, как, например,
Верхний Пфальц, Верхняя Бавария, где население почти исключительно католическое
(92—96%) и где все-таки приходится 309 и 423 случая самоубийства среди
протестантов на 100 самоубийц-католиков. Соотношение это поднимается даже до
528% в Нижней Баварии, где не насчитывается и одного протестанта на 100
жителей. Поэтому если в таком значительном колебании числа самоубийств,
представляемом двумя данными религиями, и играют некоторую роль неизбежная
осторожность и осмотрительность, присущие меньшинству, то в главной своей
части это различие вызвано какими-нибудь другими причинами. Мы находим объяснение в самой
природе двух интересующих нас религиозных систем. Та и другая в одинаковой
степени запрещают и осуждают самоубийство; на него не только обрушиваются
самые суровые моральные кары, но обе религии учат, что за гробом начинается
новая жизнь, где люди будут нести наказание за свои грехи, к числу которых и
протестантизм, и католицизм относят самоубийство. Наконец, и в том и в другом
культе запрещение убивать себя носит божественный характер; мы имеем здесь не
какое-нибудь логическое умозаключение, а авторитет самого Бога. Поэтому если
протестантизм благоприятствует большому числу самоубийств, то вовсе не потому,
что относится к нему иначе, чем католицизм. Но раз в этом частном случае обе
религии выставляют одно и то же нравственное требование, то неодинаковая
степень влияния их на число самоубийств должна иметь своей причиной
какое-нибудь из более общих свойств, отличающих их друг от друга. Единственным существенным
различием между католицизмом и протестантизмом является тот факт, что второй в
гораздо большей степени допускает свободу исследования, чем первый. Уже одним
тем, что протестантизм представляет собой идеалистическую религию, он дает
гораздо больше места для мысли и размышления, чем греко-латинский политеизм или
монотеизм евреев. Он не довольствуется машинальными обрядами, но хочет
управлять сознанием людей. Он обращается к человеческому сознанию и даже в тот
момент, когда призывает разум к слепому подчинению, сам говорит на языке
разума. С другой стороны, не подлежит сомнению, что католик принимает свою веру
в готовом виде, без всякого критического следования. Он не может подвергать ее
даже исторической проверке, так как ему запрещено пользоваться оригиналами тех
текстов, на которые она опирается. Для того чтобы религиозное предание осталось
неприкосновенным, с поразительным искусством построена целая организованная
иерархия авторитетов. Все, что является
новизной, внушает ужас правоверной католической мысли. Протестант в большей степени является творцом своей веры; Библия находится в его руках, и ему не запрещено толковать ее в любом направлении. Даже самая структура протестантского культа обнаруживает его религиозный индивидуализм. Нигде, кроме Англии, не существует иерархической организации протестантского духовенства; священник так же, как и каждый верующий, подчинен только самому себе и своей совести; он представляет собой только более осведомленного руководителя, чем все обыкновенные верующие, но не облечен никаким специальным авторитетом в сфере толкования догмы. Но что лучше всего доказывает, что эта свобода мысли, провозглашенная деятелями реформации, не осталась только платоническим утверждением, так это непрекращающийся рост различных сект, являющих собой такой живой контраст по сравнению с нераздельным единством католической церкви. Таким образом, мы пришли к
первому выводу, что наклонность протестантов к самоубийству должна находиться в
зависимости от того духа свободомыслия, которым проникнута эта религия.
Постараемся подробно разобраться в этой зависимости, так как сама свободная
мысль есть следствие других причин. Когда протестантство только что появилось
на свет, когда люди, после того как они в течение долгих лет воспринимали свою
веру в незыблемо традиционном виде, потребовали себе права творить ее самим, то
произошло это не в силу внутренних преимуществ свободного искания, ибо свобода
несет с собой столько же страдания, сколько и радости. Свобода стала для них
отныне неустранимой потребностью. И эта потребность в свободе имеет только
одну причину: упадок традиционных верований. Если бы традиция действовала с
неослабевающей силой, то не было бы повода зародиться критике; если бы
авторитет предания оставался непоколебленным, то не явилась бы дерзкая мысль
проверить самый его источник. Критическое мышление развивается только под
давлением необходимости, т. е. лишь тогда, когда известная группа непроверенных
разумом идей и чувств, которые до этого времени оказывались достаточными для
того, чтобы руководить человеческими поступками, теряет свою силу и
значение. Рефлексия заполняет образовавшуюся пустоту, а не создает эту
последнюю. Равным образом критическое мышление начинает угасать по мере того,
как мысль и воля людей превращаются в автоматические привычки, и, наоборот,
пробуждается только одновременно с дезорганизацией установившегося обихода.
Критика только тогда восстает против общественного мнения, когда оно уже не
имеет прежней силы, т.е. не является уже в полной мере общественным. Если требования
критики не носят характера только временного и преходящего кризиса, а
принимают хроническую форму, если индивидуальное сознание настойчиво и
неуклонно настаивает на своей автономии, то это значит, что новые мысли не
успели еще кристаллизоваться, что мысль еще мечется по всем направлениям и не
в состоянии заступить место старого убеждения. Если бы образовалась новая
система верований, которая представилась бы всем настолько же неоспоримой, как
и предыдущая, то никто бы и не подумал ее оспаривать. Самое обсуждение таких
верований кажется чем-то недозволенным, потому что идеи, разделяемые всем
обществом, приобретают авторитет, делающий их неприкосновенной святыней и
ставящий их выше всякой возможности спора и необходимости доказательства. Для
того чтобы убеждения сделались более терпимыми, надо, чтобы они стали менее полными
и общими и чтобы назревшие уже противоречия поколебали их силу. Поэтому если можно утверждать,
что провозглашенная свобода мысли умножает ереси, то надо прибавить, что сама
порождается ересями, что она может стать желанной и получить фактическое
осуществление лишь как принцип, позволяющий скрытым или полуявным ересям
развиться вполне свободно. Следовательно, если протестантизм уделяет больше
места индивидуальной мысли, нежели католичество, значит, он беднее
верованиями и меньше зависит от установившихся обычаев. Религиозное общество не
может существовать без коллективного credo, и оно тем более едино и тем более сильно, чем более
распространено это credo.
Оно не соединяет людей путем обмена взаимных услуг — этой временной связи,
которая мирится с различиями и даже предполагает последние, но не в состоянии
их примирить. Религия объединяет людей, только привязывая их к одной и той же
системе учений, и единство это тем сильнее, чем более широкое поле охватывает
данная система и чем солиднее она построена. Чем больше лежит религиозного
отпечатка на образе мыслей и действий данного общества, чем полнее,
следовательно, исключена здесь возможность свободного исследования, тем сильнее
мысль о Боге проникает во все детали человеческого существования и направляет к
одной цели все индивидуальные воли. Наоборот, чем сильнее в группе верующих
проявляются частные суждения, тем менее ее роль в жизни людей, тем слабее ее
сплоченность и жизненность. Мы пришли, таким образом, к заключению, что
перевес на стороне протестантизма в сфере самоубийств происходит оттого, что
эта церковь по существу своему менее целостна, нежели католическая. Этим же объясняется положение,
занимаемое в данном случае иудейством. В самом деле, то осуждение, с которым к
нему издавна относится христианство, создало среди евреев необыкновенно сильное
чувство солидарности. Необходимость бороться со всеобщим враждебным отношением,
невозможность даже свободно общаться с остальною частью населения замкнули
евреев в тесный сплоченный круг; поэтому каждая еврейская община сделалась
маленьким социальным целым, компактным и единым, и притом весьма ярко сознающим
это свое единство. Внутри его все живут и мыслят одинаково, индивидуальные
расхождения становятся почти невозможными в силу общих условий существования и
тщательного неуклонного наблюдения всех над каждым. Таким образом, религиозный
союз евреев, замкнутый в самом себе, в силу той нетерпимости, предметом которой
он был, оказался более тесным, чем все другие. Поэтому по аналогии с тем, что
мы только что видели по отношению к протестантизму, слабая степень
предрасположения евреев к самоубийству объясняется именно этою причиной в
противовес обстоятельствам разного рода, которые, наоборот, должны были бы
усилить в них эту наклонность. Конечно, с одной стороны, этим преимуществом
евреи обязаны окружающей их враждебности; но если она и оказала такое влияние,
то не потому, что она внушила им более высокие правила нравственности, а
потому, что заставила их вести более сплоченный образ жизни; евреев
предохраняет от самоубийства тот факт, что религиозное общество, к которому
они принадлежат, крепко сцементировано. Но все же гнетущий их остракизм
является только одной из причин этой особенности; самый характер еврейской
религии оказывает на наклонность к самоубийству немалое влияние. В самом деле,
иудейство, как и все религии низшего порядка, представляет собою по существу
собрание правил и обычаев, самым тщательным образом регламентирующих все
детали человеческого существования, не оставляя почти ничего на свободное
усмотрение индивидуальной воли. III Несколько фактов подтверждают
предыдущее объяснение. Во-первых, среди всех больших стран с протестантским
населением {Англия является страной с наименьшим числом самоубийств: в ней
насчитывается около 80 самоубийств на 1 млн жителей, тогда как в реформатских
общинах Германской империи мы имеем от 140—400 случаев. В то же время никто не
скажет, чтобы идейная и деловая жизнь была развита в Англии менее сильно, чем в
какой-нибудь другой страну Надо принять во внимание, что одновременно с этим
англиканская церковь значительно более сплочена, чем другие протестантские
церкви. Правда, обыкновенно Англию считают классической страной индивидуальной
свободы, но на самом деле факты указывают на то, что число верований и правил
поведения общих и обязательных, а следовательно, изъятых из сферы
индивидуального усмотрения, более значительно в Англии, чем в Германии.
Во-первых, в Англии закон до сих пор санкционирует много религиозных предписаний,
как, например, закон о соблюдении воскресенья, закон, запрещающий выводить на
сцене лиц из Священного писания, или закон, который еще недавно требовал от
каждого депутата чего-то вроде присяги, и т. д. Затем хорошо известно, как
сильно и общерасп-ространено в Англии уважение традиций, и, само собой
разумеется, эта черта проявляется в религиозной области не менее, чем во всех
остальных. Сильное развитие традиционализма всегда подавляет самодеятельность
индивида. Наконец, из всего протестантского духовенства одно только
англиканское имеет иерархическую организацию. Эта внешняя организация является,
конечно, показателем внутреннего единства, которое несовместимо с ясно
выраженным религиозным индивидуализмом. Кроме того, Англия является той
протестантской страной, где число духовенства особенно велико. В 1876 г. на
каждого служителя культа там приходилось 908 прихожан, тогда как в Венгрии их
было 932, в Голландии —100, в Дании— 1300, в Швейцарии—1440, в Германии —1600.
Но число священников отнюдь нельзя считать незначительной подробностью и
только поверхностной чертой, не стоящей ни в каком отношении к внутренней
природе религии. Доказательством этого служит уже то обстоятельство, что везде
католическое духовенство гораздо многочисленнее, чем протестантское. В Италии
на одного священника приходится 267 католиков, в Испании — 419, в Португалии—
536, в Швейцарии — 540, во Франции — 823, в Бельгии—1050. Это объясняется тем,
что священник представляет собою естественный орган для выражения веры и
традиции и что здесь, как и всюду, орган развивается в той же мере, как и та
функция, которой он служит: чем интенсивнее религиозная жизнь, тем большее
число людей нужно для руководства ею; чем больше догм и правил, которые не
могут быть предоставлены личному толкованию, тем больше надо компетентных
авторитетов для объяснения их смысла; с другой стороны, чем многочисленнее
авторитеты, тем лучше они проникают в души индивидов и лучше овладевают ими.
Таким образом, Англия не только не опровергает нашей теории, но служит для нее
подтверждением и проверкой. Если протестантизм не производит в ней тех же
результатов, что и на континенте, то это значит, что религиозное общество в
Англии имеет очень сплоченную организацию и тем самым приближается к
католической церкви. Но у нас есть и еще один аргумент, более общего характера. Стремление к свободному исследованию может удиться лишь вместе со стремлением к образованию. В самом деле, знание является единственным средством, которым располагает мышление для достижения своих целей. Когда лишенные смысла верования и обычаи теряют свой авторитет, то для того, чтобы заменить их другими, необходимо обратиться к просвещенному сознанию, высшей формой которого является наука; в основании своем эти два стремления составляют одно и то же и являются результатом одной и той же причины. В общем, люди стремятся к образованию только по мере того, как они освобождаются от ярма традиции, так как, пока она владеет умами, она заменяет собою все и не терпит соперничества никакой иной силы. Наоборот, люди начинают стремиться к свету с того момента, когда новые потребности перестают находить себе удовлетворение в окружающей темноте устаревших и изживших себя обычаев. Именно поэтому философия, первичная и синтетическая форма науки, выступает на сцену, когда религия теряет свою власть, но не раньше этого момента; непосредственно за тем она дает начало прогрессивно размножающимся частичным отраслям знания, по мере того как в свою очередь развивается вызвавшая ее потребность. Поэтому если мы не ошиблись, если прогрессивное падение коллективных и обычных предрассудков предрасполагает к самоубийству и если именно этим обстоятельством определяется повышенная наклонность к нему среди протестантов, то мы должны ожидать наличности следующих двух фактов: 1) стремление к образованию должно быть сильнее у протестантов, чем у католиков; 2) поскольку стремление это указывает на упадок общепринятых верований, постольку оно должно, вообще говоря, изменяться пропорционально числу самоубийств. Подтверждается ли эта двойная гипотеза фактами? Если сравнивать только вершины католической
Франции и протестантской Германии, т. е. только самые высшие классы этих двух
наций, то, по-видимому, Франция может выдержать сравнение с Германией. В
больших центрах Франции наука находится на той же степени развития, как и у ее
соседей; даже можно с достоверностью сказать, что многие протестантские центры
уступают ей в этом смысле. Но если в высших слоях этих двух стран стремление к
образованию ощущается с одинаковой силой, то нельзя сказать того же самого про
низы народной массы; и если в обеих сравниваемых странах просвещение достигает
почти той же максимальной интенсивности,
то средняя интенсивность во Франции слабее, чем в Германии. То же можно
сказать обо всех вообще католических нациях при сравнении их с нациями
протестантскими. Можно предполагать, что в области высшей культуры первые не
уступают вторым, но совершенно другую картину представляет сравнение
интенсивности народного образования. Тогда как у протестантских народов
(Саксония, Норвегия, Швеция, Баден, Дания и Пруссия) в течение 1877—1878 гг.
на 1000 детей школьного возраста, т. е. от 6—12 лет, 957 человек в среднем
посещали школу, католические страны (Франция, Австро-Венгрия, Испания, Италия)
за тот же период насчитывали только 667 человек на 1000, т. е. на 31% меньше.
То же самое мы видим в 1874—1875 и 1860—1861 гг. Пруссия, в которой это число
ниже, чем во всех других протестантских странах, стоит в этом отношении
все-таки выше Франции, идущей во главе католических стран: в Пруссии 897
обучающихся детей приходится на 1000, а во Франции только 766. Из всей Германии
больше всего католиков в Баварии, и она насчитывает больше всего неграмотных.
Из всех провинций Баварии наиболее сильным католическим духом проникнут
Верхний Пфальц, и в нем больше всего число новобранцев, не умеющих ни читать,
ни писать (15% в 1871 г.). То же совпадение мы видим в Пруссии, в Прусской
провинции и в герцогстве Познань. Наконец, во всем королевстве в 1871 г.
насчитывалось неграмотных на 1000 протестантов 29 человек и на 1000 католиков —
152. То же соотношение наблюдается среди женщин этих двух вероисповеданий. Но нам, пожалуй, возразят, что первоначальное образование не может служить мерилом для состояния общего образования страны; часто говорили, что не числом неграмотных измеряется степень образованности вообще. Согласимся с этим возражением, хотя, по правде сказать, различные степени образования более связаны между собою, чем это кажется, и трудно развиться одной, в то время как другая не развивается одновременно с ней. Во всяком случае, если уровень первоначальной культуры только в очень слабой степени отражает уровень культуры научной, то все же с достаточной точностью указывает, в какой мере народ, взятый в общей массе, испытывает жажду знаний; потребность в просвещении должна ощущаться в высшей степени, раз возникло стремление распространить его элементы вплоть до самых низших слоев населения. Для того чтобы предоставить в общее пользование средства к образованию, для того чтобы объявить невежество наказуемым по закону, народ должен считать прояснение и развитие сознания непременным условием своего бытия. В самом деле, если протестантские нации признали такую важность за образованием, то они это сделали потому, что считают необходимым каждому человеку доставить возможность читать и толковать Библию. В данный момент мы хотим определить среднюю интенсивность этой потребности и то значение, которое каждый народ приписывает науке, а не ценность его ученых и их открытий. С этой специальной точки зрения состояние высшего образования и чисто научного творчества было бы плохим критерием, так как оно показывало бы нам только то, что происходит в ограниченном кругу общества. Народное и общее образование в данном случае является более верным признаком. Таким образом, доказав наше первое предложение,
перейдем ко второму. Правда ли, что потребность в образовании в той мере, в
какой она соответствует ослаблению господствующей веры, растет пропорционально
числу самоубийств? Уже один тот факт, что протестанты более образованны, чем
католики, и лишают себя жизни чаще, чем они, является, так сказать, первой
презумпцией в пользу этого допущения. Но этот закон подтверждается не только
сравнением одного вероисповедания с другими; он наблюдается в равной степени и
внутри каждой вероисповедной группы. Италия — страна всецело католическая;
народное образование и самоубийство распределяются в ней совершенно одинаковым
образом. Здесь соответствуют друг другу не только
средние числа, но соответствие это простирается вплоть до мельчайших деталей;
существует только одно исключение— Эмилия, где под влиянием местных причин
число самоубийств не имеет никакого соотношения со степенью образования. Те же
наблюдения можно произвести и во Франции. Больше всего неграмотных супругов в
следующих департаментах (ниже 20%): Corrize, Corse, Cotes du Nord, La Dordogne, Finistire, Morlihan, Haute-Vienne', все они относительно мало
страдают от самоубийств. Среди департаментов, где свыше 10% супружеских пар
абсолютно неграмотны, нет ни одного, принадлежащего к северо-востоку страны—
классическому месту самоубийств во Франции. Если мы будем сравнивать протестантские страны,
то найдем такой же параллелизм. В Саксонии процент самоубийств больше,
чем в Пруссии,— в Пруссии больше неграмотных, чем в Саксонии (5,52% вместо
1,3% в 1865 г.). Саксония отличается тем, что число школьников превышает в ней
обязательную законную норму. На 1000 детей школьного возраста в 1877—1878 гг.
было 1031 посещавших школы, т. е. многие из них продолжали свое обучение дальше
установленного законом времени. Этого не наблюдается ни в какой другой стране.
Наконец, Англия есть, как мы знаем, та из протестантских стран, где меньше
всего совершается самоубийств, и она больше всех по образованию приближается к
католическим странам. В 1865 г. в английском флоте было 23% матросов, не
умевших читать, и 27% — не умевших писать. Можно присоединить сюда еще целый ряд фактов,
подтверждающих предыдущие данные. Стремление к знаниям особенно живо
чувствуется среди представителей свободных профессий и вообще среди людей,
принадлежащих к состоятельным классам, у которых умственная жизнь бьется
усиленным темпом. И хотя статистика самоубийств по профессиям и классам не
может быть установлена с полной достоверностью, но несомненно, что самоубийство
всего больше развито в высших слоях общества. Во Франции в 1826—1860 гг. во
главе самоубийц стояли люди свободных профессий: они дают 550 случаев на 1 млн
людей той же профессиональной группы, тогда как непосредственно следующий за
ними по числу самоубийств класс прислуги дает только 290. В Италии Морселли
удалось рассмотреть отдельно самоубийства среди людей, специально занимающихся
наукой, и он нашел, что здесь самоубийства более часты, чем в пределах какой бы
то ни было иной профессии. В течение периода 1868—1876 гг. насчитывалось 482,6
случая на 1 млн жителей этой профессии; следующую ступень представляет собою армия
— 401,1, а среднее число во всей стране равняется только 32. В Пруссии (1883—
1890 гг.) класс чиновников, который комплектуется с большим старанием и
представляет собой поэтому избранную интеллигентную часть населения, превосходит
все другие профессии по числу самоубийств; последнее равняется здесь 832;
санитарная служба и педагогическая деятельность стоят по числу совершаемых в
них самоубийств значительно ниже, хотя все же держатся на достаточно высоком
уровне (439 и 301). То же наблюдается и в Баварии. Если оставить в
стороне армию, которая по отношению к самоубийству занимает исключительное
положение в силу причин, о которых речь будет ниже, то класс чиновников
занимает второе место (454 случая самоубийства) и почти приближается к
первому; очень незначительное превосходство оказывается на стороне людей,
занимающихся торговлей, процент которых равняется 465 на 1 млн; искусство,
литература и пресса отстают от него очень немного (416). Правда, в Бельгии и
Вюртемберге образованные классы кажутся в этом отношении менее плодовитыми; но
самый перечень и названия интеллигентных профессий там слишком мало
определены, для того чтобы можно было приписывать большое значение этим двум
исключениям. Далее мы видели, что во всех странах мира женщины
убивают себя значительно реже, чем мужчины. К тому же женщина в общем гораздо
менее образованна; психика ее подчинена авторитету традиции, в своем поведении
она руководствуется установившимся мнением и не имеет особо интенсивных
интеллектуальных потребностей. В Италии за период 1878—1879 гг. из 10000 мужчин
4808 не могли за неграмотностью подписать брачного контракта, а на 10000 женщин
оказалось 7029 неграмотных. Во Франции в 1879 г. процент равнялся для мужчин
196 и для женщин 310 на 1000 браков. В Пруссии мы имеем ту же разницу между
полами как среди католиков, так и среди протестантов. В Англии эта разница
меньше, чем в каком-либо другом европейском государстве. В 1879 г. в ней
насчитывалось 138 неграмотных мужчин против 185 женщин на 1000 браков, и
начиная с 1851 г. соотношение это оставалось постоянным. Но Англия является
также страной, где женщина по числу самоубийств ближе всего подходит к мужчине.
На 1000 женских самоубийств там насчитывалось 2546 мужских в течение периода
1858—1860 гг., 2745 —в 1863—1867 гг., 2861 —в 1872—1876 гг., тогда как везде в
других странах женщины убивают себя в 4—5 раз реже, чем мужчины. Наконец, в
Соединенных Штатах мы находим в данном отношении почти противоположные
условия, и потому пример этот будет для нас особенно поучителен. Негритянки,
оказывается, имеют равное, если не высшее, образование по сравнению со своими
мужьями. Несколько исследователей подтверждают, что у этих женщин
наблюдается сильное предрасположение к самоубийству, иногда даже превышающее
норму белых женщин. Пропорция в некоторых местах доходит до 350 на 1 млн. Есть одно обстоятельство, которое, казалось бы,
должно разрушить все наше построение/Из всех вероисповеданий меньше всего
самоубийств наблюдается среди иудейского, а между тем нигде так повсеместно не
распространено образование, как среди евреев; даже в смысле первоначального
обучения евреи стоят по меньшей мере на одном уровне с протестантами. В Пруссии
(1871 г.) на 1000 евреев обоего пола приходилось 66 неграмотных мужчин и 125
женщин; для протестантов мы имеем почти тождественные цифры: 66 мужчин и 114
женщин. Но в особенности высок по сравнению с другими культами процент евреев,
получивших высшее и среднее образование. Это доказывается нижеследующими
цифрами, заимствуемыми нами из прусской статистики (1875—1876 гг.):
Если принять во внимание относительную численность
евреев и лиц других вероисповеданий, то окажется, что евреи посещают гимназии,
реальные училища и другие средние учебные заведения приблизительно в 14 раз
больше, чем католики, и в 7 раз больше, чем протестанты. Та же пропорция
остается и для высшего образования. На 1000 католиков, посещающих учебные
заведения всех разрядов, приходится только 1,3 доходящих до университета, на
1000 протестантов — 2,5; для евреев отношение это подымается до 16. Но если евреи очень восприимчивы к образованию
и чрезвычайно мало наклонны к самоубийству, то происхождение этого любопытного
факта имеет специальное объяснение. Можно считать общим законом, что
вероисповедное меньшинство, для того чтобы иметь опору против окружающей его
всеобщей ненависти, или движимое простым чувством соревнования, стремится
превзойти по образованию окружающее его население; в силу этих же причин
протестанты проявляют больше стремления к знаниям, когда представляют собою
меньшую часть населения. Мы, таким образом, видим, что там, где
протестантизм охватывает собою подавляющее большинство, процент протестантских
школьников отстает от процента протестантов в общей массе населения. Но как
только усиливается католическое меньшинство, разница между процентными
отношениями обучающихся протестантов и католиков из отрицательной становится
положительной, и эта положительная разница увеличивается по мере того, как
уменьшается число протестантов. Католическое население также проявляет высшую
степень стремления к образованию там, где оно является меньшинством. Следовательно, евреи стремятся к образованию не
потому, что они хотели бы заменить критическим мышлением свои укоренившиеся
коллективные предрассудки, а только с целью быть лучше вооруженными в борьбе
за существование. Образованность для еврея служит как бы средством компенсировать
то неблагоприятное социальное положение, в какое ставит его( общественное
мнение, а иногда и законодательство. Сама по себе наука бессильна повлиять на
традиционное мышление, пока оно не утратило своей силы, и поэтому еврей к своей
обычной энергии присоединяет интеллектуальную культуру, причем первая ничуть
не затрагивается второй. Это обстоятельство вполне объясняет нам сложность
еврейской национальной физиономии: примитивный в некоторых отношениях еврей в
то же время умеет быть человеком самой утонченной умственной культуры. В своем
лице эта нация соединяет все преимущества сильной дисциплины, характеризующей
маленькие коллективы прежнего времени, с благами интенсивной культуры, которые
являются привилегией современных больших стран. Еврей усваивает себе всю
интеллигентность нашего века, не зная его усталости и разочарования. Если поэтому в данном исключительном случае
интеллектуальное развитие не находится в прямом соотношении с количеством
самоубийств, то это происходит оттого, что еврейская культурность имеет другое
происхождение и другое значение, нежели обыкновенно. Исключение из общего
правила становится только кажущимся и по существу только подтверждает
выведенный нами закон. В самом деле, оно показывает, что если в образованной
среде наклонность к самоубийству возрастает, то увеличение это обязано, как мы
говорили выше, падению традиционных верований и утверждающемуся взамен старой
веры моральному индивидуализму; но повышенная наклонность к самоубийству
тотчас же исчезает, если стремление к образованию вызывается другими мотивами и
направлено к другим целям. IV Предыдущая глава дает нам право сделать два
важных вывода. Во-первых, мы видим теперь, почему самоубийство вообще
прогрессирует параллельно с развитием науки, хотя вовсе не она определяет собой
его возрастание. Наука здесь неповинна, и было бы крайне несправедливо
обвинять ее; об этом достаточно убедительно свидетельствует пример евреев. Но
два этих факта являются одновременно последствиями одного и того же общего состояния,
которое они выражают в разных формах. Человек стремится к знанию и лишает себя
жизни потому, что религиозная община, к которой он принадлежит, утратила для
него свою сплоченность, но он не убивает себя потому, что получает образование;
нельзя даже сказать, чтобы полученные им знания дезорганизовали его религиозное
миросозерцание; наоборот, вместе с падением религии просыпается жажда знаний.
Знания приобретаются не как орудие разрушения сложившихся убеждений, но человек
ждет новых идей именно потому, что старый духовный мир уже изжил себя. Конечно,
поскольку существует наука, она в состоянии от своего имени и полагаясь на
свои силы бороться с традиционными понятиями и противопоставить им самое себя;
но нападения ее были бы безрезультатны, если бы традиционные чувства и понятия
не потеряли своей силы. Больше того, можно даже сказать, что и самая борьба не
могла бы при этом условии зародиться. Вера не искореняется диалектическими
рассуждениями; она только тогда рушится под ударами доказательств, когда
основание ее потрясено уже другими причинами. Наука не только не является
источником зла, она представляет собою единственное средство, которым мы
располагаем для борьбы с ним. Как только течение вещей поколебало
установившиеся верования, воскресить их искусственным образом ничто не может;
но на нашем жизненном пути мы имеем только одного проводника— наше критическое
мышление. Если социальный инстинкт ослабел, то остается только один
руководитель— разум, и только при его посредстве может выработаться новое
сознание. Как бы ни был опасен этот путь, другого выбора нет и колебаться
невозможно. Пусть все те, кто с грустью и тревогой смотрит на разрушение старых
верований, кто чувствует и сознает все трудности этого критического периода,
не обвиняют науку за то зло, в котором она не только не повинна, но излечить
которое она стремится. Пусть не смотрят на науку, как на враждебную силу; она
вовсе не оказывает того губительного влияния, какое ей приписывают, но дает
нам в руки единственное оружие для борьбы с тем самым разложением, продуктом
которого она сама является. Осуждение науки не есть исход; авторитет
исчезнувших традиций не оживет, если запечатать ее уста; осудив ее, мы окажемся
только в еще более критическом положении, так как нам нечем будет заполнить
образовавшуюся духовную пустоту. Правда, не следует увлекаться и видеть в
образовании самодовлеющую цель, тогда как на самом деле оно служит только
средством. Насильственные оковы не умертвят в человеческом разуме духа
независимости, но точно так же недостаточно дать ему свободу для того, чтобы
установить равновесие; надо, чтобы он правильно употребил данную ему свободу. Далее мы видим, почему религия
вообще оказывает профилактическое влияние на самоубийство; объяснение этому
факту мы находим не в том, что, как иногда говорят, религия более резко
осуждает самоубийство, нежели светская мораль, не в том, что мысль о Боге
сообщает религиозным заветам исключительную власть над человеческой волей, и не
в том, наконец, что перспектива будущей жизни и ужасных кар, ожидающих
виновных, дает запретам религии большее значение, нежели человеческим законам.
Протестант не менее сильно верит в Бога и в бессмертие души, нежели католик;
больше того, религия, наименее склонная к самоубийству, а именно иудейство, в
то же самое время оказывается единственной не запрещающей его формально, и
именно здесь мысль о бессмертии играет наименьшую роль. В самом деле,
Библия не содержит никаких запретов лишать себя жизни*, и, с другой стороны,
представление о загробной, потусторонней жизни выражено в ней крайне неясно.
Конечно, и в том и в другом отношении толкования раввинов мало-помалу заполнили
пробелы священной книги, но абсолютного авторитета они все-таки не могут
иметь. Поэтому благотворное влияние религии нельзя припи-сывать специальной
природе религиозных идей; если она сохраняет человека от самоуничтожения, то
это происходит не потому, что она внушает путем аргументов sui generis уважение
к человеческой личности, но в силу того, что она является обществом; сущность
этого общества состоит в известных общих верованиях и обычаях, признаваемых
всеми верующими, освященных традицией и потому обязательных. Чем больше
существует таких коллективных состояний сознания, чем они сильнее, тем крепче
связана религиозная община, тем больше в ней содержится предохраняющих начал.
Детали догматов и обрядов в данном случае имеют второстепенное значение. Суть в
том, чтобы они по природе своей были способны с достаточною интенсивностью
питать коллективную жизнь; и именно потому, что протестантская церковь не так
тесно спаяна, как все остальные, она и не оказывает на самоубийство такого же
умеряющего влияния. * Единственный карающий
запрет, который нам известен, мы находим у Иосифа Флавия в его «Истории войны
евреев с римлянами...» (III 25), и там просто сказано: «...тела людей,
добровольно умертвивших себя, остаются без погребения до заката солнца, тогда
как убитых на войне разрешается хоронить раньше». Можно ли это считать
наказанием? ГЛАВА III. ЭГОИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО (продолжение)Но если религия предохраняет от самоубийства лишь постольку, поскольку она создает общество, то вполне вероятно, что и другие общественные союзы вызывают те же результаты. Рассмотрим с этой точки зрения политическое общество и семью. I Если принимать во внимание только абсолютные цифры, то получается впечатление, что холостые люди кончают с собою реже, чем женатые. Так, например, во Франции в период 1873—1875 гг. насчитывалось 16 264 самоубийства среди женатых, тогда как холостяки дали только 11709 случаев. Первое число относится ко второму как 100 к 132. Так как та же пропорция наблюдается и в другие периоды, и в других странах, то некоторые исследователи раньше утверждали, что брак и семейная жизнь увеличивают наклонность к самоубийству. Если, следуя общепринятому мнению, видеть в самоубийстве акт отчаяния, вызванный тяжелыми условиями существования, то вышеприведенное мнение имеет все основания. Действительно, холостому человеку жизнь дается легче, чем женатому. Разве брак не несет с собою всякого рода забот и обязанностей? Разве для того, чтобы обеспечить настоящее и будущее семьи, не приходится налагать на себя больше бремени и лишений, чем это выпадает на долю одинокого человека? Несмотря на кажущуюся очевидность, это априорное рассуждение совершенно неправильно, и факты только потому дают ему некоторую опору, что плохо анализируются. Бертильон-отец первый установил это, и мы дальше приведем его остроумные вычисления. Для того чтобы вполне правильно разобраться в вышеприведенных цифрах, надо принять во внимание, что очень большой процент холостых людей имеет'менее 16 лет от роду, тогда как женатые в среднем старше. До 16 лет наклонность к самоубийству развита очень слабо в силу раннего возраста. Во Франции за этот период жизни человека наблюдается только 1 или 2 случая на 1.000000 жителей, в следующий за ним период число самоубийств уже в 20 раз больше. Присутствие среди холостяков большого числа детей моложе 16 лет значительно понижает среднюю степень наклонности к самоубийству среди них. Таким образом, меньшее число случаев самоубийства, даваемое холостыми, зависит не от безбрачия, а от того, что большинство из них не вышло еще из детского возраста. Поэтому если при сравнении этих двух групп населения мы хотим выделить то влияние, какое оказывают семейные условия и только они одни, то мы должны отбросить этот вносящий пертурбацию несовершеннолетний элемент и противопоставить людям, состоящим в браке, только неженатых и незамужних свыше 16-летнего возраста, исключая более молодое поколение. Откинув это последнее, мы находим, что за период 1863—1868 гг. на 1 млн холостых старше 16-летнего возраста приходится в среднем 173 случая самоубийства, а на 1 млн женатых —154,6. Первое число относится ко второму, как 112 к 100. Мы видим, таким образом, что безбрачие увеличивает количество самоубийств. На самом деле превышение случаев самоубийства среди холостых еще больше, чем указывают предыдущие цифры. При вычислении их мы сделали допущение, что все холостые люди свыше 16 лет и все люди, вступившие в брак, имеют один и тот же средний возраст. Между тем во Франции большинство холостяков (58%) приходится на возраст между 25—30 годами, большинство незамужних женщин (57%) моложе 25 лет. Средний возраст первых — 26,8, вторых — 23,4. Напротив, средний возраст находящихся в браке падает между 40 — 45 годами. С другой стороны, число самоубийств для обоих полов вместе в зависимости от возраста прогрессирует следующим образом: От 16—21 лет 45,9 самоубийства на 1 млн жителей » 21 — 30 » 97,9 » » » » 31—40 » 114,5 » » » » 41—50 » 164,4 » » » Эти цифры относятся к 1848—1857 гг. Если бы процент самоубийств зависел только от возраста, то среди людей холостых он не мог бы быть выше 97,9, а среди людей женатых находился бы между 114,5— 164,4, т.е. приблизительно около 140. Число самоубийств женатых должно было бы относиться к числу холостых, как 100 к 69. Второе составляло бы только 2/з первого, тогда как мы знаем, что превосходство именно на стороне вторых. Таким образом, семейная жизнь делает интересующее нас отношение обратным. Если бы семейные связи не оказывали никакого влияния, то женатые и замужние должны были бы в силу своего возраста чаще кончать с собой, чем холостые, а в действительности происходит как раз наоборот. Принимая это во внимание, можно сказать, что брак почти наполовину уменьшает наклонность к самоубийству; говоря более точно, пребывание в безбрачии влечет за собою увеличение, которое выражается отношением 112/69=1,6. Поэтому если условиться и наклонность к самоубийству людей, находящихся в браке, обозначить единицей, то наклонность холостых людей будет равняться 1,6 для того же среднего возраста. То же соотношение мы наблюдаем в Италии. В силу своего возраста женатые (1873—1877гг.) должны были бы давать 102 случая на 1 млн, а холостые старше 16 лет только 77; первое число относится ко второму, как 100 к 75. Но на самом деле женатые люди всего реже кончают с собой: на 86 случаев среди холостых приходится только 71—среди женатых, т. е. 100 на 121. Таким образом, предрасположение холостых относится к наклонности женатых, как 121 к 75, т. е. равняется 1,6, как и во Франции. Аналогичные наблюдения можно сделать и в других странах; повсеместно процент самоубийств среди женатых меньше, чем среди холостых, тогда как в силу возраста первых он должен был бы быть больше. В Вюртемберге в 1846— 1860 гг. эти числа относились друг к другу, как 100 к 143, в Пруссии в 1873^1875 гг.—как 100 к 111. Но если при настоящем положении статистики этот метод вычисления почти во всех случаях является единственно применимым и если для того, чтобы установить факт в его общем виде, необходимо прибегать исключительно к нему, то полученные результаты, конечно, могут считаться только грубо приблизительными. Метода этого, без сомнения, достаточно для того, чтобы установить тот факт, что холостая жизнь увеличивает наклонность к самоубийству; но количественную величину этого повышения он указывает очень неточно. Для того чтобы разделить влияние возраста и семейного положения, мы взяли исходной точкой соотношение между процентами самоубийств в 30-летнем и в 45-летнем возрасте. К несчастью, влияние семейного положения уже само отпечаталось на этом соотношении, так как присущий каждому из этих возрастов процент самоубийств был вычислен для холостяков и для женатых, взятых вместе. Конечно, если бы пропорция тех и других была одинакова для обоих периодов точно так же, как и пропорция замужних и незамужних женщин, то произошла бы компенсация и проявилось бы только одно влияние возраста. В действительности же получается совсем другое. В то время как в возрасте 30 лет холостых было немного больше, чем женатых (746111, с одной стороны, и 714278 — с другой), в 45-летнем возрасте, наоборот, их оказалось подавляющее меньшинство (333 033 холостых на 1864401 женатых); то же самое мы видим и по отношению к женщинам. Вследствие этого неравного распределения большая наклонность к самоубийству у холостых отражается на общем итоге в этих двух случаях неодинаково. В первом случае она сильнее повышает процент самоубийств, чем во втором; последний относительно слишком слаб, и численное превосходство его над первым, которое должно было бы проявиться, если бы имелось налицо только влияние возраста, искусственно уменьшено. Говоря другими словами, разница в склонности к самоубийству между населением 25—30 и 40—45 лет, обусловленная одним только возрастом, несомненно, значительнее, чем указывает подобный метод вычисления. Мы имеем здесь отклонение, умеренность которого почти целиком обязана своим существованием преимуществу женатых людей; следовательно, оно представляется меньшим, чем есть в действительности. Только что указанный нами метод уже фактически привел к важным ошибкам. Так, например, для определения степени влияния вдовства на количество самоубийств иногда ограничивались тем, что сравнивали процент, присущий вдовцам, с процентом, относящимся к людям всех других семейных положений одного и того же среднего возраста, т. е. приблизительно 65 лет. В результате оказалось, что 1 млн вдовцов в 1863—1868 гг. давал 628 случаев самоубийства; 1 млн людей 65 лет других семейных положений давал 461 случай. Из этих цифровых данных можно заклю- ' чить, что даже в одном и том же возрасте вдовцы лишают себя жизни чаще, чем люди всякого иного семейного положения. Таким образом, как будто бы подтвердился предрассудок, что состояние вдовства наиболее предрасполагает к самоубийству. В действительности если 65-летнее население не дает в среднем большего числа самоубийств, чем вдовцы, то это происходит потому, что почти все они в этом возрасте женаты (776191 женатых на 134238 холостых). Если этого сравнения достаточно для доказательства того, что вдовцы лишают себя жизни чаще, чем женатые люди того же возраста, то нельзя делать отсюда никакого заключения в смысле сравнения их наклонности с наклонностью холостяков. Наконец, когда сравнивают только средние числа, то самые факты и существующие между ними соотношения естественно не могут выступить во всем своем значении. Легко может случиться, что, вообще говоря, женатые лишают себя жизни меньше, чем холостые, но в известном возрасте это соотношение становится обратным; и мы увидим, что это действительно имеет место. Эти исключения, которые могут оказаться чрезвычайно поучительными для объяснения исследуемого явления, нет возможности установить путем предыдущего метода. Вполне возможно также, что между двумя возрастами будут наблюдаться изменения, которые хотя и не настолько велики, чтобы превратить установленное соотношение в обратное, но имеют все же некоторое значение и потому должны быть приняты во внимание. Существует только один способ для избежания этих затруднений, а именно: надо определить процент каждой группы, взятой в отдельности для каждого возраста. При этом условии можно будет сравнить, например, холостяков в возрасте 25—30 лет с женатыми и вдовцами того же возраста и то же самое сравнение произвести для других периодов жизни. Таким образом влияние семейного положения будет отделено от всех остальных, и изменения, которые оно влечет за собой, станут очевидными. Этот-то метод впервые и применил при вычислении смертности и брака Бертильон. К сожалению, официальные сведения не дают нам необходимых данных для желаемого сравнения. Мы получаем сведения о возрасте самоубийц независимо от их семейного положения; единственная известная нам статистика, которая пошла по другому пути, относится к великому герцогству Ольденбургскому (включая Любек и Биркенфельд). Она дает нам за 1871 — 1875 гг. распределение числа самоубийств согласно возрасту для каждой категории семейного положения в отдельности. Но в этом маленьком государстве насчитывалось всего 1369 случаев самоубийства в течение 15 лет, а так как из такого небольшого количества случаев нельзя вывести никаких достоверных заключений, то мы сами предприняли соответственную работу для Франции с помощью неизданных документов министерства юстиции. Наши изыскания касаются 1889—1890 и 1891 годов. Нам удалось рассмотреть 25000 самоубийств. Помимо того что эта цифра сама по себе достаточно значительна для того, чтобы служить основанием для определенного вывода, мы убедились в том, что продолжать дальше наши наблюдения не было никакой необходимости. В самом деле, из года в год число самоубийств каждого возраста остается неизменным для каждой группы, и поэтому для вывода среднего числа нет надобности в более продолжительном наблюдении. Для того чтобы ярче обнаружить их значение, мы для каждого возраста рядом с цифрой, обозначающей процент вдовых и находящихся в браке, поставили то, что мы называем коэффициентом предохранения вторых по отношению к первым, и тех и других по отношению к не вступавшим в брак. Этим словом мы обозначаем число, указывающее, во сколько раз в одной группе лишают себя жизни меньше, чем в другой в одном и том же возрасте. Поэтому, когда мы будем говорить, что коэффициент предохранения женатых 25 лет по отношению к холостым равняется 3, то это будет значить, что если наклонность к самоубийству женатых в этот момент их жизни принята за единицу, то наклонность холостяков в тот же период надо обозначить цифрой 3. Конечно, когда коэффициент предохранения опускается ниже 1, то он превращается в коэффициент усиления наклонности к самоубийству. Законы, вытекающие из этих данных, могут быть сформулированы следующим образом. 1. Слишком ранний брак увеличивает наклонность к самоубийству, в особенности у мужчин. Правда, этот результат, полученный от рассмотрения очень ограниченного количества фактов, не может считаться окончательным; во Франции среди супругов 15 — 20-летнего возраста случается в среднем годовом выводе только один случай самоубийства, вернее, 1,33. Но ввиду того, что этот факт в равной мере наблюдается и в Герцогстве Ольденбургском, а также по отношению к женщинам, то маловероятно, чтобы дело объяснялось одной случайностью. Даже шведская статистика указывает на то же увеличение, по крайней мере относительно мужчин. Если в силу приведенных нами причин мы эту статистику считаем неправильной по отношению к преклонному возрасту, то мы не имеем никакого основания сомневаться в ее достоверности, поскольку она касается первых периодов жизни, когда вдовцов еще не может быть. Между прочим, известно, что смертность молодых супругов значительно превосходит смертность холостых мужчин и девушек того же возраста: 1000 неженатых мужчин между 15—20 годами дают ежегодно 8,9 смертей; 1000 женатых того же возраста дают 51, т. е. на 473% больше. Значительно меньшее уклонение мы имеем для другого пола: 9,9 — среди замужних и 8,3 — среди девушек; первое число относится ко второму, как 119 к 100. Такая сильная смертность среди молодых супругов объясняется, конечно, социальными причинами. Если бы это печальное явление обусловливалось главным образом недостаточной зрелостью организма, то смертность должна была бы отозваться сильнее на женской половине населения вследствие естественных опасностей, связанных с деторождением. Все заставляет нас прийти к тому заключению, что преждевременный брак влечет за собою специфическое моральное состояние, особенно вредно отзывающееся на мужчинах. 2. Начиная с 20 лет люди, состоящие в браке, по отношению к холостым и незамужним обладают коэффициентом предохранения, превышающим единицу. Этот последний выше того, который установил Бер-тильон. Цифра 6, данная нам этим ученым, представляет собою скорее минимум, чем среднюю. Коэффициент изменяется в зависимости от возраста. Он быстро достигает максимума — между 25—30 годами во Франции, между 30—40 годами — в Ольденбурге; начиная с этого момента, он падает вплоть до последних лет человеческой жизни, когда опять наблюдается легкое повышение. 3. Коэффициент предохранения супругов по отношению к холостым и незамужним изменяется в зависимости от пола. Во Франции преимущество на стороне мужчин, и разница между полами довольно значительна; для мужчин мы имеем в среднем 2,73, тогда как для женщин (замужних)—1,56, т.е. на 43% меньше. Но в Ольденбурге наблюдается обратное: для женщин среднее число равняется 2,16, а для мужчин только 1,83. Надо заметить, что в то же время здесь самое расхождение меньше: второе число разнится от первого только на 16%. Мы можем сказать теперь, что пол, которому наиболее благоприятствует брачное состояние, изменяется в зависимости от страны и что величина отклонения между процентом самоубийств у обоих полов изменяется в зависимости от того, какой именно пол оказывается наиболее благоприятствуе-мым. В последующем изложении мы найдем факты, подтверждающие этот закон. 4. Вдовство уменьшает коэффициент предохранения супругов обоего пола, но обыкновенно не уничтожает его совершенно. Вдовцы убивают себя чаще, чем люди, состоящие в браке, но в общем менее, нежели совсем безбрачные. Коэффициент их поднимается в некоторых случаях до 1,60 и 1,66; так же, как и у супругов, он изменяется вместе с возрастом, но процесс этот совершается неправильно, и мы не можем в данном случае установить никакой закономерности. Совершенно так же, как и у супругов, коэффициент предохранения вдовцов по отношению к безбрачным изменяется в зависимости от пола. Во Франции перевес оказывается на стороне мужчин; средний мужской коэффициент равняется 1,32, тогда как для вдов он спускается ниже единицы (0,89), т. е он на 37% меньше. Наоборот, в Ольденбурге среди вдового населения, как и среди брачного, преимущество на стороне женщин: их средний коэффициент равняется 1,07, тогда как коэффициент вдовцов падает ниже единицы и составляет 0,89, т. е. на 17% меньше. Как и в брачном состоянии, в тех случаях, когда наиболее предохраненной оказывается женщина, разница между полами меньше, чем там, где имеет преимущество мужчина. Мы можем сказать прежними словами, что наиболее благоприятствуемый пол у вдовых изменяется в зависимости от страны и что величина отклонения между процентом самоубийств у обоих полов изменяется в зависимости от того, какой пол оказывается наиболее благоприятствуемым. Установив эти факты, постараемся объяснить их. II Преимущества, которыми пользуются люди, находящиеся в брачном состоянии, можно приписать только одной из двух нижеследующих причин: Либо мы имеем здесь влияние домашней среды; в таком случае именно семья нейтрализует наклонность к самоубийству и мешает ей развиваться. Либо же этот факт объясняется тем, что можно назвать «брачным подбором». Брак действительно механически производит в общей массе населения некоторого рода сортировку. Не всякий желающий женится. Мало шансов создать себе семью у того человека, который не обладает известным здоровьем, средствами к жизни и определенными нравственными достоинствами. Тот, кто лишен всего этого, за исключением каких-либо особо благоприятных обстоятельств, волей или неволей отбрасывается в разряд безбрачных, которые и составляют, таким образом, наихудшую часть населения. Именно в этой среде чаще всего попадаются слабые, неизлечимо больные люди, крайние бедняки, субъекты нравственно испорченные. Если эта часть населения настолько ниже остальной, то вполне естественно, что она проявляет в своей среде более высокую степень смертности, более сильно развитую преступность и, наконец, большую наклонность к самоубийству. При такой гипотезе уже не семья предохраняет человека от самоубийства, преступлений или болезней, а, наоборот, преимущество людей, находящихся в брачном состоянии, зависит от того, что только тем доступна семейная жизнь, кто представляет собою серьезные гарантии физического и нравственного здоровья. Бертильон, казалось, колебался между этими двумя объяснениями и поочередно принимал то одно, то другое. Летурно в своей книге «Эволюция брака и семьи» (Париж, 1888 г., ст. 426) категорически высказывался в пользу второго предположения. Он отказывается признать в бесспорном превосходстве женатых и замужних в смысле предохраненности от самоубийства следствие и доказательство преимущества брачного состояния; но он, конечно, был бы менее поспешен в своих суждениях, если бы с большим вниманием отнесся к фактам. Без сомнения, вполне возможно, что в общем супруги имеют лучшую физическую и моральную организацию, чем безбрачные. Нельзя, однако, сказать, чтобы брачный подбор допускал совершение брака только среди избранной части населения. Особенно сомнительно, чтобы люди без средств и положения вступали в брак значительно реже, нежели все остальные. Как уже было замечено, у бедных классов населения гораздо больше детей, чем у состоятельных. Если дух предусмотрительности не мешает им размножаться выше всяких пределов благоразумия, то почему бы вообще эти люди могли удерживаться от вступления в брак? Кроме того, целый ряд фактов в последующем изложении может подтвердить, что нужда вовсе не является одним из факторов, определяющих социальный процент самоубийств. Что же касается слабых и больных, то кроме того, что целый ряд причин заставляет их пренебрегать своими болезнями, еще вовсе не доказано, чтобы из их среды чаще всего вербовались самоубийцы. Психоорганический темперамент, наиболее всего предрасполагающий человека к самоубийству,— это неврастения во всех ее видах, а в наше время неврастения скорее указывает на некоторое превосходство, чем на дефект. В утонченном обществе, живущем высшей умственной жизнью, неврастеники составляют своего рода духовную аристократию. Только явно выраженное, характерное сумасшествие преграждает человеку путь к браку; но устранение этой крайне редкой аномалии совершенно недостаточно для объяснения значительного преимущества в смысле низкого процента самоубийств у людей, находящихся в брачном состоянии. Помимо этих несколько априорных соображений многочисленные факты указывают на то, что взаимоотношение женатых и холостых объясняется совершенно другими причинами. Если бы это взаимоотношение определялось брачным подбором, то проявляться оно должно было бы с того момента, когда подбор начинает входить в силу, т. е. когда молодые люди и девушки вступают в брак. В это время впервые должно было бы обозначиться некоторое уклонение, которое затем мало-помалу увеличивалось бы по мере дальнейшего действия подбора, т. е. по мере вступления в брак более зрелых людей, обособления их от той группы, которая по натуре своей предназначена образовать класс неисправимых холостяков. Наконец, максимальное уклонение должно было бы пасть на тот возраст, когда добрые семена уже окончательно отделяются от плевел, когда все способные к браку вступают в него и в безбрачии остаются только обреченные на это судьбой в силу их физических или нравственных недостатков. Этот период приходится между 30—40 годами человеческой жизни — возраст, после которого браки совершаются чрезвычайно редко. В действительности оказывается, что коэффициент предохранения изменяется по совершенно другому закону. В исходной своей точке он очень часто уступает место обратному коэффициенту, т. е. усилению случаев самоубийства. Очень молодые супруги более склонны к самоубийству, нежели холостые люди. Этого бы не могло быть, если бы они от рождения в самих себе заключали условия, предохраняющие от самоубийства. Затем максимум различия наступает почти сразу. Начиная с того момента, когда привилегированное положение женатых начинает обнаруживаться (между 20—25 годами), коэффициент уже достигает цифры, выше которой он впоследствии не поднимается. В этот период мы имеем 148 000 женатых на 1 430 000 холостых и 626 000 замужних на 1 049 000 девушек (круглые числа). Таким образом, здесь холостые и девицы заключают в своих рядах наибольшую часть того избранного населения, которое якобы в силу своих природных качеств призвано впоследствии образовать аристократию супружеских пар. Поэтому разница между этими двумя классами по отношению к самоубийству должна бы быть очень небольшая. На самом же деле уклонение уже довольно значительно. Точно так же в следующем возрасте, между 25—30 годами, имеется более 1 000 000 холостых из числа тех 2 000 000, которые в ближайшем периоде, между 30— 40 годами, вступят в брак. И группа холостых, несмотря на то что насчитывает их в своих рядах, не только ничего не выигрывает, но именно в этом периоде дает особенно сильно чувствовать свои отрицательные качества. Ни в каком другом возрасте не достигает такой значительной величины разница между женатыми и холостыми в смысле наклонности их к самоубийству. Напротив, между 30—40 годами, когда разделение на две группы окончательно завершилось и класс супругов почти заполнил все свои кадры, коэффициент предохранения, вместо того чтобы достичь своего апогея и обозначить таким образом тог факт, что супружеский подбор дошел до своего предела, внезапно и резко падает: для мужчин с 3,20 он спускается до 2,77, для женщин мы имеем еще более резкое понижение—от 2,22 до 1,53, т. е. на 32%. С другой стороны, этот подбор, каким бы способом он ни совершался, должен производиться одинаково как среди юношей, так и среди девушек, потому что жены не подбираются иным путем, чем мужья. Если моральное превосходство людей, состоящих в браке, есть следствие подбора, то оно должно в равной степени отзываться на обоих полах и то же самое должно наблюдаться и в области предохранения от самоубийства. В действительности же во Франции преимущества мужей по сравнению с холостяками выше, чем преимущества жен по сравнению с девицами. Для первых коэффициент предохранения подымается до 3,20, только в одном случае спускается ниже 2,04 и большею частью колеблется около 2,80; для жен максимум не превышает 2,22 (в лучшем случае 2,39), а минимум даже ниже единицы (0,98). Поэтому можно считать, что во Франции замужняя женщина ближе всего .находится к мужчине в смысле наклонности к самоубийству. Итак, в каждом возрасте доля женщин в самоубийствах лиц, состоящих в браке, значительно выше, чем доля девушек в числе самоубийств, совершенных безбрачными. Конечно, это вовсе не значит, чтобы замужняя женщина была сильнее наклонна к самоубийству, нежели девушка; это значит лишь, что если женщине удалось выйти замуж, то она в смысле предохранения от самоубийства выигрывает меньше, чем ее супруг. Но если предохранение до такой степени неодинаково, то, очевидно, семейная жизнь различным образом влияет на моральный характер обоих полов. Решительное доказательство того, что эта неравномерность не имеет другого источника, мы видим в том, что указанная разность рождается и растет под влиянием семьи. В самом деле, в своей отправной точке коэффициент предохранения почти одинаков для обоих полов (2,93 или 2— с одной стороны и 2,40—с другой). Затем мало-помалу разница выступает яснее: сначала потому, что коэффициент у замужних женщин достигает своего максимума медленнее, чем у женатых мужчин, а затем потому, что он падает быстрее и на большую величину. Если коэффициент меняется по мере того, как влияние семьи приобретает известную длительность, то это значит, что он находится от нее в прямой зависимости. Еще более убедительным является то обстоятельство, что положение обоих полов по отношению к предохранению от самоубийства, которым пользуются люди, состоящие в браке, в различных странах неодинаково. В великом герцогстве Ольденбургском в наиболее благоприятном и защищенном положении оказываются не мужчины, а женщины, и в дальнейшем мы найдем и другие случаи такого отклонения. Между тем в общем и целом брачный подбор всюду совершается одинаковым образом. Невозможно, следовательно, допустить, чтобы он был существенным фактором того преимущества, которым пользуются женатые люди по отношению к самоубийству, ибо иначе было бы необъяснимо, почему этот подбор производит в различных странах различные результаты. Напротив, вполне возможно, что семья в двух различных странах сложилась таким образом, что она различно действует на оба пола; поэтому в самом строении семейной группы должно искать главную причину интересующего нас явления. Как бы ни был интересен этот результат, но раньше всего надо совершенно точно определить его, потому что домашняя среда слагается из самых различных элементов. Для каждого супруга семья состоит из 1) другого супруга и 2) из детей. Первому или второму из этих элементов принадлежит благотворное влияние на наклонность к самоубийству? Говоря другими словами, семья состоит из 2 различных союзов: с одной стороны, мы имеем супружескую пару, а с другой—семейную группу в собственном смысле этого слова. Эти два образования имеют различную природу и различное происхождение и потому не могут, по всей вероятности, производить одинаковых результатов. Один союз учреждается путем соглашения и выбора, другой есть явление природы, кровное родство: первый соединяет собою двух представителей одного и того же поколения, другой соединяет предыдущее поколение с последующим; второй союз так же древен, как и само человечество, первый же принял организованную форму в относительно позднюю эпоху. Если эти два образования до такой степени разнятся между собою, то a priori уже нельзя быть уверенным в том, чтобы они оба способствовали существованию интересующего нас явления. Во всяком случае, если и то, и другое оказывает свое влияние, то не одинаковым образом и, по всей вероятности, не в одинаковой мере. Поэтому чрезвычайно важно разобраться в том, участвуют ли в данном случае оба элемента семьи, и если да, то какова доля каждого из них. Мы имеем доказательство того, что брак оказывает незначительное влияние на коэффициент предохранения от самоубийства; в самом деле, величина наклонности к браку мало изменялась с начала XIX в., тогда как предрасположение к самоубийству стало втрое сильнее. В 1821 —1830 гг. на 1000 жителей приходилось 7,8 годовых браков; в 1831 —1850 гг.— 8; в 1851 —1860 гг.—7,9; в 1861 — 1870 гг.—7,8; в 1871 — 1880 гг.— 8. За этот же период времени процент самоубийств на 1 млн жителей с 54 поднялся до 180. С 1880 по 1888 г. наклонность к браку несколько понизилась (стала 7,4 вместо 8), но это понижение не стоит ни в какой связи с громадным повышением числа самоубийств, которое за период 1880—1887 гг. поднялось на 16%. Кроме того, за период 1865—1868 гг. средняя наклонность к браку во Франции (7,7) почти равняется по своей величине соответственным цифрам в Дании (7,8) и Италии (7,6), хотя эти страны колоссально разнятся между собою в смысле числа самоубийств. В течение 1887—1898 гг. 1 млн бездетных супругов давал 644 случая самоубийства. Для того чтобы знать, в какой мере само брачное состояние независимо от влияния семьи предохраняет людей от самоубийства, достаточно сравнить эту цифру с той, которую дают холостые люди того же среднего возраста. Средний возраст людей, состоящих в браке, так же, как и теперь, был тогда 48 лет 8 '/з месяца. 1 млн холостых этого возраста дает 975 случаев самоубийства; 644 относится к 975, как 100 к 150, т. е. у бездетных супругов коэффициент предохранения равняется 1,5; они только на '/з убивают себя реже, чем холостые того же . возраста. Мы имеем совершенно другую картину там, где брак сопровождается деторождением. 1 млн браков при наличии детей в течение того же периода ежегодно давал только 336 случаев самоубийства. Число это относится к 975, как 100 к 290, т. е. если брак плодовит, то коэффициент предохранения почти удваивается (2,90 вместо 1,5). Супружеский союз играет, таким образом, второстепенную роль в образовании у людей, состоящих в браке, коэффициента предохранения. К тому же надо заметить, что в предыдущем вычислении мы приписали этой роли несколько большее значение, чем она имеет в действительности. Мы предположили, что бездетные супруги имеют тот же средний возраст, что и супруги вообще, тогда как на самом деле они находятся, конечно, в более молодом возрасте. Они насчитывают в своих рядах те молодые супружеские пары, которые бездетны не в силу своей бесплодности, а потому, что, женившись слишком рано, не имели еще времени приобрести детей. В среднем только к 34 годам мужчина впервые делается отцом, и женится он приблизительно к 28—29 годам. Часть женатого населения от 28- до 34-летнего возраста целиком входит в категорию бездетных супругов, что значительно понижает средний возраст этих последних, и поэтому, принимая его за 46, мы, конечно, впали в ошибку. Но в таком случае безбрачный элемент, с которым их надо было бы сравнивать, должен быть также не 46 лет, а моложе и, следовательно, с меньшим процентом самоубийств. В силу этого коэффициент предохранения, определяемый одними только супружескими отношениями, в действительности ниже 1,5. Если бы мы знали точно средний возраст бездетных супругов, то оказалось бы, что величина их наклонности к самоубийству приближается к величине холостых еще сильнее, чем это показывают предыдущие цифры. Ограниченное и незначительное влияние самого брака видно еще яснее из того, что вдовцы, оставшиеся с детьми, находятся в более благоприятном положении, нежели бездетные супруги. Первые дают 937 случаев на 1 млн жителей; средний возраст для них — 61 год 8 '/з месяца. Число холостых в этом возрасте колеблется между 1434 и 1768, т. е. приблизительно в среднем 1504. Это число относится к 937, как 160 к 100. Вдовцы в том случае, если они остаются с детьми, имеют коэффициентом предохранения 1,6, превосходят, следовательно, в этом отношении бездетных супругов. Надо к тому же заметить, что, вычисляя коэффициент таким образом, мы скорее приуменьшим, чем преувеличим, его. В самом деле, семейные вдовцы имеют, несомненно, более зрелый средний возраст, чем вдовцы бездетные. Ведь в число этих последних входят все те, брак которых остается бесплодным только потому, что смерть слишком рано прекратила его, т. е. самые молодые люди. Поэтому вдовцов с детьми надо бы сравнивать с холостыми старше 62 лет, которые уже в силу самого возраста более наклонны к самоубийству. Ясно, что при этом преимущество их в смысле высоты коэффициента выступило бы еще рельефнее. Правда, этот коэффициент 1,6 значительно ниже, чем коэффициент семейных супругов 2,9; разница равняется по меньшей мере 45%. Можно было бы думать, что сам по себе брачный союз имеет на склонность к самоубийству большее влияние, чем мы ему приписываем, если с его прекращением степень предохранения остающегося в живых супруга падает до такой степени. Но такой факт можно только в очень слабой степени приписать расстройству брачного союза. Это доказывается тем обстоятельством, что в тех случаях, когда нет детей, влияние вдовства гораздо менее ощутимо. 1 млн бездетных вдовцов дает 1258 случаев самоубийства; эта цифра относится к 1504 — числу самоубийств среди холостых в 62-летнем возрасте, как 100 к 119; коэффициент предохранения выражается, следовательно, приблизительно числом 1,2, которое лишь немного ниже коэффициента 1,5, относящегося к бездетным супругам. Первое число меньше второго только на 20%. Итак, можно сказать, что, если смерть одного из супругов не влечет за собой никаких последствий, кроме того, что разрушает брачное сожитие, обстоятельство это не особенно сильно отражается на склонности вдовца к самоубийству. Следовательно, брак в том виде, как он теперь существует, только в слабой мере сдерживает эту наклонность, ибо с прекращением брака эта последняя не возрастает сколько-нибудь значительно. Что же касается причины, усиливающей наклонность вдовцов к самоубийству даже в том случае, если брак их был плодовит, то искать ее надо в присутствии детей. Конечно, с одной стороны, дети привязывают вдовца к жизни, но с другой — их существование значительно обостряет переживаемый вдовцом кризис. В этом случае удар обрушивается не на один только брачный союз; все течение семейной жизни оказывается нарушенным. В механизме семьи выпало существенное колесо, и он не может правильно работать. Для того чтобы восстановить нарушенное равновесие, надо, чтобы человек взял на себя двойную работу и выполнял такие функции, для которых он не приспособлен. ч Естественно, что в таком положении человек утрачивает ту степень предохранения от самоубийства, которой он обладал в то время, когда брачный союз его не был разрушен. Коэффициент предохранения уменьшается не потому, что прекратилось брачное сожительство, а потому, что семья, в которой этот человек является главой, в корне своем дезорганизовалась. Неурядицу влечет за собой потеря не жены, а матери семейства. Незначительное влияние самого брачного союза как такового на величину коэффициента предохранения обнаруживается особенно ярко в том случае, если дело касается женщины и если в лице детей этот союз не имеет своего естественного дополнения. 1 млн бездетных жен дает 221 случай самоубийства, 1 млн девушек (того же возраста, между 42—43 годами) дает только 150. Первое число относится ко второму, как 100 к 67, а коэффициент предохранения падает ниже единицы (0,67), т. е. в действительности мы имеем уже не предохранение от самоубийства, а обострение наклонности к нему. Итак, во Франции замужние бездетные женщины лишают себя жизни в 1 !/2 раза больше, чем девушки того лее возраста. Мы уже констатировали раньше, что на жену семейная жизнь оказывает не столь сильное благоприятное влияние, как на мужа. Мы нашли теперь объяснение этому факту: брачный союз сам по себе отзывается на женщине очень тяжело и способствует увеличению ее наклонности к самоубийству. Если тем не менее нам показалось, что в общем замужняя женщина обладает некоторым коэффициентом предохранения, то это произошло потому, что бездетные супружества составляют исключение и в громадном большинстве случаев присутствие детей смягчает тяжелую сторону брака, но только смягчает, не более того. Миллион женщин, имеющих детей, дает 79 случаев самоубийства; если сравнить это число с процентом незамужних женщин 42-летнего возраста (150), то получается следующий вывод: замужняя женщина, если она в то же самое время является и матерью, пользуется коэффициентом предохранения, равным 1,89, т. е. на 35% ниже того, которым обладает мужчина при тех же условиях. Поэтому нельзя по отношению к вопросу о самоубийстве согласиться с положением Бертильона: «Когда женщина вступает в брак, то она выигрывает от этого союза больше, чем мужчина, но, естественно, страдает сильнее, чем он, от его разрушения». III Итак, то преимущество в смысле смертности от самоубийства, которым, вообще говоря, пользуются люди, состоящие в браке, обязано, для одного пола целиком, а для другого в значительной части, не влиянию самого супружеского союза, а влиянию союза семейного. Однако, как мы уже видели, даже при отсутствии детей женатые мужчины, во всяком случае, находятся в более благоприятном положении, измеряемом отношением 1 к 1,5. Уменьшение в размере 50 случаев самоубийства на 150, т. е., иначе говоря, на 33%, хотя и значительно меньше того, которое наблюдается при наличии полной семьи, представляет все же достаточную величину, для того чтобы стоило заняться анализом причин этого явления. Объясняется ли оно специальным, благотворным влиянием брака на мужчин или же представляет собой результат брачного подбора? Хотя выше мы уже доказали, что этот последний не играет той главной роли, которую ему приписывают, но из этого не следует, чтобы он не имел никакого влияния на наклонность к самоубийству. Существует одно обстоятельство, на первый взгляд подтверждающее эту гипотезу. Мы знаем, что коэффициент предохранения у бездетных мужей не уничтожается, когда они теряют жен, а только спускается с 1,5 до 1,2. Вполне очевидно, что степень предохранения бездетных вдовцов не может быть отнесена на счет вдовства, которое само по себе не только не может умерить наклонности к самоубийству, но способно скорее усилить ее. Поэтому то преимущество, о котором мы сейчас говорим, зависит от какой-нибудь более ранней причины; брак не может быть ею, так как искомая причина продолжает оказывать свое действие даже тогда, когда умирает один из супругов — жена. Естественно возникает предположение, что преимущество это заложено в каком-нибудь врожденном качестве супругов, которое обнаруживается благодаря брачному подбору, но им не создается. Если это качество существовало у них до брака, независимо от него, то ничуть не удивительно, что оно имеет большую длительность, нежели самый брак. Если брачное население представляет собою избранную часть страны, то то же самое неизбежно приходится сказать и об его вдовствующей части. Правда, это врожденное превосходство проявляется у последних слабее, поскольку они оказываются менее защищенными от наклонности к самоубийству. Но вполне понятно, что душевное потрясение, испытанное вдовцом, может отчасти нейтрализовать это предохранительное влияние и помешать проявить ему свою силу в полной мере. Однако это объяснение может быть принято лишь в том случае, если оно в равной мере приложимо к обоим полам. Среди замужних женщин необходимо найти хоть какие-нибудь следы этого естественного предрасположения, которое при прочих одинаковых условиях предохраняло бы их от самоубийства больше, чем девушек. Уже одно то обстоятельство, что при отсутствии детей женщины убивают себя чаще, чем девушки того же возраста, плохо мирится с гипотезой, согласно которой они награждены от рождения лично им присущим коэффициентом предохранения. Правда, можно, пожалуй, еще допустить, что этот коэффициент для женщины существует так же, как и для мужчины, но что он совершенно аннулируется в течение брачного сожития тем печальным влиянием, которое замужество оказывает на моральную личность женщины. Но если бы это врожденное качество только сдерживалось и маскировалось тем своеобразным моральным упадком, который вызывается в женщине супружескими отношениями, то оно должно было бы обнаружиться после смерти супруга. Мы должны были бы наблюдать, что женщина, освободившись из-под гнета супружеского ярма, возвращает себе все свои преимущества и утверждает свое превосходство над теми из представительниц своего поколения, которым не удалось выйти замуж. Другими словами, бездетные вдовы по сравнению с девицами должны были бы иметь коэффициент, по величине приближающийся по меньшей мере к тому, которым пользуются бездетные вдовцы. Ничего подобного нет на самом деле: 1 млн бездетных вдов дает ежегодно 322 случая самоубийства; 1 млн незамужних женщин 60 лет (средний возраст для вдовы) дает число, колеблющееся между 189—204, приблизительно 196. Первое относится ко второму, как 100 к 60. Бездетные вдовы имеют коэффициент ниже единицы, иначе говоря, коэффициент отрицательный; цифра 0,60 даже несколько меньше, чем число, выражающее собой коэффициент бездетных замужних женщин (0,67). Следовательно, можно вполне определенно сказать, что вовсе не брак мешает этим последним проявить ту естественную предохраненность от самоубийства, которую им приписывают. В ответ на это могут возразить, что полному возрождению благоприятных свойств, заглохших во время брака, мешает то обстоятельство, что для женщины быть вдовой еще хуже, чем быть замужем. Надо сознаться, что это очень распространенное в обществе мнение, будто вдова находится в более критическом положении, чем вдовец. Обыкновенно указывают на материальные и моральные затруднения, с которыми вдове приходится бороться, отстаивая свое существование, особенно если судьба заставляет прокармливать целую семью. Существует даже мнение, будто факты вполне подтверждают такое предположение. По мнению Морселли, статистикой установлено, что женщина-вдова менее отстает от мужчин по степени наклонности к самоубийству, чем тогда, когда она живет в браке; а так как, выходя замуж, женщина в этом смысле уже приблизилась к мужчине, то, очевидно, для нее нет худшего положения, чем вдовство. Доля женщины в общей массе самоубийств, совершенных обоими полами в состоянии вдовства, действительно кажется значим ельно большей, чем в сумме самоубийств, совершенных людьми, состоящими в браке. Не служит ли этот факт доказательством того, что вдовство тяжелее переносится женщиной, чем замужество? Если это так, то нет ничего удивительного в том, что, овдовев, женщине еще труднее, чем в период брачной жизни, проявить свои природные положительные свойства. К несчастью, этот мнимый закон покоится на фактической ошибке. Морселли забыл, что всюду вдов в 2 раза больше, чем вдовцов. Во Франции, в круглых цифрах, насчитывается 2 000 000 первых и 1 000 000 вторых. В Пруссии, по переписи 1890 г., насчитывалось 450000 одних и 1 319000 других. При таких условиях вполне естественно, что относительное число самоубийств у вдов значительнее, чем у замужних женщин, которых, само собою разумеется, имеется ровно столько же, как и женатых мужчин. Для того чтобы сравнение имело какую-нибудь ценность, надо обе группы населения привести к одинаковому уровню; но если выполнить эту предосторожность, получится результат, обратный тому, какой дает Морселли. В среднем возрасте вдов, т. е. в 60-летнем возрасте, 1 млн женщин дает 154 случая самоубийства и 1 млн мужчин— 577. Доля женщин (21%) значительно уменьшается для вдов. На 1 млн вдов приходится 210 случаев, а на 1 млн вдовцов—1017. Мы видим, что из 100 самоубийств вдовых обоего пола на долю женщин приходится только 17. Напротив, пропорция мужчин поднимается от 79 до 83%. Итак, становясь вдовцом, мужчина теряет больше, чем женщина, попадающая в аналогичное положение, так как он теряет при этом некоторые из тех преимуществ, которые связаны для него с брачным состоянием. Нет никакого основания предполагать, что эта перемена положения приносит женщине больше забот и огорчений, чем мужчине; действительность говорит нам обратное. Известно, что смертность среди вдовцов значительно выше, чем среди вдов; то же можно сказать и относительно вторичного вступления в брак. Вдовцы в любом возрасте в 3 или в 4 раза чаще вторично женятся, чем холостяки вступают в брак, тогда как вдовы выходят замуж только немногим больше чем девушки. Женщина с такою же степенью холодности относится ко вторичному замужеству, с какою горячностью мужчина стремится вторично жениться. Дело обстояло бы совершенно иначе, если бы положение вдовца легко переносилось мужчиной и если бы, наоборот, женщина, согласно общераспространенному мнению, так много терпела от потери мужа. Но если в положении вдовы нет ничего такого, чтобы специально парализовать те природные качества, которые предполагаются у женщины в силу одного того, что она была избрана в супруги, и если качества эти не проявляют себя во время брака хоть сколько-нибудь заметным образом, то нет никакого основания предполагать, что они действительно существуют. Гипотеза брачного подбора совершенно неприменима к женщине; ничто не дает нам права предполагать, что женщина, призванная к замужеству, обладает привилегированной натурой, предохраняющей ее в известной мере от самоубийства. Следовательно, настолько же неосновательно аналогичное предположение насчет мужчины. Коэффициент 1,5, которым пользуются бездетные супруги, получается вовсе не потому, что эти люди происходят от самой здоровой части населения; он может являться только результатом брака. Надо признать, что супружески союз, столь пагубный для женщины, действует на мужчину, даже и при отсутствии детей, благотворным образом. Мужчины, вступающие в брак, вовсе не составляют природной аристократии: вступая в брак, они не обладают совершенно определившимся душевным складом, который мог бы предохранить их от самоубийства. Но этот склад развивается под влиянием самого брачного сожительства. Во всяком случае, если женатые мужчины обладают некоторыми природными преимуществами, то последние носят очень смутный и неопределенный характер, потому что остаются в бездействии, пока не являются на сцену какие-нибудь дополнительные условия. Совершенно справедливо, что самоубийство зависит главным образом не от внутренних свойств индивида, а от внешних причин, управляющих людьми. Нам остается разрешить еще один очень важный вопрос. Если этот коэффициент— 1,5, не зависящий от присутствия или отсутствия детей, обязан своим существованием браку, то почему же он переживает самый брак и, правда в несколько смягченной форме (1,2), но .все-таки встречается у бездетных вдовцов? Если отбросить теорию брачного подбора, объясняющую это явление, то чем другим объяснить его? Для этого достаточно предположить, что привычки, вкусы, скрытые наклонности, образовавшиеся в брачном сожительстве, не исчезают вслед за его прекращением; нет ничего естественнее этой гипотезы. Если женатый человек, даже при отсутствии детей, питает к самоубийству относительно большее отвращение, то неизбежно, что частица этого отрицательного чувства остается в его душе и тогда, когда он становится вдовцом. Но так как вдовство неизбежно связано с некоторым моральным потрясением и так как всякое нарушение равновесия, как мы покажем дальше, толкает человека на самоубийство, это отрицательное отношение к самоубийству сохраняется лишь в ослабленном виде. У женщины по этим же причинам мы можем наблюдать обратное явление: так как бездетная женщина убивает себя чаще, чем девушка, то, овдовев, она сохраняет эту повышенную наклонность, которая даже несколько усиливается в связи с тем моральным расстройством и той жизненной неприспособленностью, которые несет с собою вдовство для женщины. Но только вследствие того, что тяжелое влияние, которое оказывает на нее брак, делает для нее переход к вдовству более легко переносимым, и самое ухудшение носит незначительный характер; коэффициент понижается только на несколько сотых (0,60 вместо 0,67). Наше объяснение подтверждается тем обстоятельством, что оно есть только частный случай более общего положения, которое можно сформулировать следующим образом: в данном обществе наклонность к самоубийству для каждого пола в состоянии вдовства является функцией наклонности к самоубийству, присущей тому же полу в брачном сожительстве. Если муж в сильной степени предохранен от самоубийства, то вдовец сохраняет ту же позицию по отношению к самоубийству, хотя, само собой разумеется, в более слабой степени. Если первый слабо защищен от самоубийства, то второй или вовсе лишен предохранения, или обладает им только в самом незначительном размере. Для того чтобы подтвердить правильность этого тезиса, достаточно указать на те выводы, которые оттуда непосредственно вытекают. Мы видели, что один пол находится в более благоприятном положении, чем другой, как во время брака, так и в состоянии вдовства; тот из них, за которым остается привилегия в первом случае, сохраняет свое преимущество и во втором. Во Франции мужья обладают более высоким коэффициентом предохранения, чем жены; такое же соотношение сохраняется и в случае вдовства. В герцогстве Ольденбургском среди женатого населения можно наблюдать обратное явление: женщины пользуются большей степенью предохранения, чем мужчины, независимо от того, вдовеют ли они или состоят в браке. Но ввиду того что эти два единственных случая могут, и вполне справедливо, показаться не вполне убедительными, так как, с другой стороны, статистические данные не дают нам нужных сведений для проверки нашего предположения относительно других стран, то мы прибегли к следующему приему. Для того чтобы расширить поле для нашего сравнения, мы вычислили отдельно процент самоубийств для каждой возрастной группы и для каждого семейного положения, с одной стороны, для департамента Сены, а с другой — для всех других французских департаментов, взятых вместе. Две социальные группы, изолированныедаким образом, одна от другой, достаточно разнятся между собою, для того чтобы можно было надеяться вынести из этого сравнения что-нибудь поучительное. И в самом деле, семейная жизнь действует в этих двух случаях различным образом на наклонность к самоубийству. В провинциальных департаментах мужья предохранены от самоубийства гораздо сильнее, чем жены. Коэффициент первых только в четырех случаях спускается ниже 3, тогда как для женщин он не достигает 2, средний коэффициент в первом случае равен 2,88, во втором—1,49. В департаменте же Сены мы видим как раз обратное явление: средний коэффициент для мужчин только 1,56, для женщин —1,79. Такое же обратное соотношение можно наблюдать и между вдовцами и вдовами. В провинции средний коэффициент вдовцов равен 1,45, а у вдов он значительно ниже — 0,78, В департаменте же Сены, наоборот, второй превышает первый и подымается до 0,93, т. е. почти до 1, тогда как первый опускается до 0,75. Итак, на чьей бы стороне ни было преимущество в смысле предохранения от самоубийства, вдовство всегда следует за брачным сожительством. Больше того, если посмотреть, каким образом коэффициент
супругов изменяется в зависимости от социальной группы, и если затем повторить
то же изыскание относительно вдовых, то получатся следующие результаты:
Числовые отношения для каждого пола почти
одинаковы (разница в нескольких сотых), причем для женщин мы имеем почти
абсолютное равенство. Итак, если коэффициент супругов повышается или понижается,
то не только изменяется в соответственную сторону коэффициент вдовых, но второй
увеличивается и уменьшается в той же самой пропорции. Эти отношения могут быть
выражены даже в еще более убедительной форме при помощи приведенного нами выше
закона. В самом деле, из только что установленных нами отношений следует, что
вдовство уменьшает степень предохранения всегда в одной и той же степени:
предохраняет мужа от самоубийства, то нет ничего удивительного в том, что и вдовец сохраняет в себе это счастливое свойство. Полученный нами вывод, помимо того что разрешает поставленный нами вопрос, бросает еще некоторый свет на самую природу вдовца. Он говорит нам, что вдовство само по себе не есть вовсе безусловно тяжелое положение; очень часто вдовство оказывается лучше безбрачия. Суть дела заключается в том, что моральное состояние вдовцов и вдов не представляет собой ничего специфического, но зависит от духовной природы супругов того же пола и той же страны. Вдовство является в этом отношении как бы продолжением брачного состояния. Скажите мне, каким образом в данной стране брак и семейная жизнь отражаются на мужчинах и женщинах, и я скажу вам, как влияет на тех и других вдовство. Жизнь распорядилась так, что создала в данном случае очень счастливую компенсацию: там, где брак и семейная жизнь удачны, кризис, наступающий со вдовством, переносится людьми тяжелее, но человек лучше вооружен для того, чтобы встретить его лицом к лицу; наоборот, критический период переживается легче, когда брачная и семейная атмосфера оставляют желать лучшего, но зато люди обладают меньшей способностью сопротивления, когда умирает один из супругов и брачная жизнь прекращается. Итак, в той среде, где мужчина выигрывает от семейной жизни больше, чем женщина, он страдает сильнее, если остается один, но в то же время он в состоянии лучше переносить жизненные испытания, потому что благотворное влияние брака сделало его более способным противостоять порывам отчаяния. IV Из предыдущих замечаний можно видеть, что брак имеет свое специальное, предохраняющее влияние на самоубийство. Но это влияние очень ограниченно и, кроме того, действует только по отношению к одному полу. Как бы ни было для нас полезно установить наличность этого обстоятельства (полную его оценку мы даем ниже), нельзя отрицать, что существенным фактором предохранения от самоубийства людей, состоящих в браке, является все-таки семья, т. е. сплоченная группа, образуемая родителями и детьми. Конечно, поскольку супруги входят в состав этой группы в качестве ее членов, они тоже оказывают друг на друга свою долю влияния, но только не как муж и жена, а как отец и мать, как органы семейного союза. Если исчезновение одного из них увеличивает шансы другого покончить жизнь самоубийством, то это происходит не потому, что смерть разорвала связывающие их лично узы, а в силу того, что в результате наносится удар семье, который и отзывается отрицательно на супруге, оставшемся в наличности. Предполагая в дальнейшем заняться специально рассмотрением влияния, оказываемого браком, мы скажем теперь, что семейный союз точно так же, как и религиозный, является могучим предохраняющим средством от самоубийства. Это предохранение тем полнее, чем больше семья, т. е. чем больше число ее членов. Мы уже развивали и обосновывали это положение в статье, помещенной в «Revue philosophique» в ноябре 1888 г. Но недостаток статистических данных, бывших в то время в нашем распоряжении, не позволил нам доказать нашу мысль с той убедительностью, какой мы желали. В самом деле, мы не знали тогда, каков был средний уровень семьи во всей Франции вообще и в каждом департаменте в частности. Мы должны были исходить из предположения, что плотность семьи зависит исключительно от количества детей, и так как это число в переписи не было указано, то для определения его нам пришлось руководствоваться косвенным методом, а именно тем, который в демографии называется физиологическим приращением, т. е. годовым избытком рождений над тысячью смертей. Конечно, такая постановка исследования не лишена основания, потому что там, где наблюдается большое приращение, семьи в общем не могут быть малодетными, хотя полной причинной связи здесь нет, и часто ожидаемого результата может и не получиться в тех местах, где дети имеют привычку рано покидать своих родителей — либо в целях эмиграции, либо желая устроиться своим хозяйством, либо в силу какой-либо другой причины. В таких случаях размеры семьи не пропорциональны числу ее членов. Семья может опустеть, несмотря на то что брак был плодовит. Именно так обыкновенно и случается в культурных слоях общества, где дети с самого раннего возраста покидают родительский дом, для того чтобы получить или закончить свое образование, или среди жалкой бедноты, где жестокая борьба за существование вынуждает семью преждевременно мобилизировать все свои рабочие силы. Напротив, при средней степени деторожда-емости семья может сохранить достаточное или даже высокое число составных элементов, если взрослые холостые или даже женатые дети продолжают жить с родителями под общей кровлей и образуют все вместе одно общее хозяйство. В силу всех этих причин с достоверностью определить относительную величину- семейных групп можно только иногда, когда их наличный состав хорошо известен. Перепись 1886 г., результаты которой были опубликованы только в 1888 г., предоставила в наше распоряжение эти нужные нам данные. Если, пользуясь ими, определить соотношения между самоубийством и средним наличным составом семьи в различных французских департаментах, то полученные результаты выразятся следующим образом. По мере того как уменьшается число самоубийств, размеры семьи правильно увеличиваются. Если вместо того, чтобы сравнивать средние числа, мы проанализируем содержимое каждой группы, то не найдем ничего, что бы не подтверждало этого заключения.
Во всей Франции средний состав 10
семей равняется 39 человекам. Если высчитать, сколько в каждой из этих 6 групп
имеется департаментов со средней величиной семьи, стоящей выше, и сколько со
средней величиной семьи, стоящей ниже, чем средняя для всей Франции, то
получится следующая картина.
Группа, где процент самоубийств наибольший, заключает в себе исключительно те департаменты, где семейный состав ниже среднего уровня. Мало-помалу, но совершенно равномерно это соотношение принимает обратный характер, до тех пор пока не наступает полная противоположность. В последней группе, где самоубийства чрезвычайно редки, все департаменты имеют плотность семьи выше среднего уровня. Области с наименьшими размерами семьи имеют те же границы, что и наиболее интенсивная зона самоубийств. Эта последняя занимает север и восток Франции и простирается с одной стороны вплоть до Бретани, с другой — до Луары. Напротив, на западе и на юге, где случаи самоубийства редки, семьи имеют, в общем, значительный состав. Это взаимоотношение можно проследить несколько детальнее. В северной области следует отметить два департамента, выделяющиеся своей слабой наклонностью к самоубийству: это департаменты Nord и Pos-de-Calais. Факт этот тем более поразителен, что в департаменте Nord очень сильно развита промышленность, а она очень благоприятствует развитию самоубийств. Та же особенность бросалась в глаза и в другом случае. В указанных двух департаментах размер семьи значителен, тогда как во всех соседних департаментах он очень низок. На юге в обоих случаях мы имеем темное пятно, образуемое департаментами Bouches-du-Rhone, Vor и Alpes Maritimes; равным образом — Бретань образует светлое пятно. Всякие отступления от вышеизложенного являются исключением и к тому же крайне незначительны. Принимая во внимание множество фактов, которыми обусловливается это сложное явление, нельзя не считать значительным такое поразительное совпадение. Такое же, но только обратное соотношение можно найти в том процессе, каким эти два явления развивались с течением времени. Начиная с 1826 г. число самоубийств непрестанно возрастает, а рождаемость сокращается. С 1821 по 1830 г. на 10000 жителей приходилось 308 рождений, в течение периода 1881 — 1888 гг. цифра эта понизилась до 240, и за весь этот промежуток сокращение числа деторождении не прекращалось. В то же самое время нельзя не заметить, что семья стремится все сильнее и сильнее распылиться и разбиться на отдельные части. С 1856 по 1886 г. число хозяйств в круглых цифрах возросло на 2 000 000; правильно и непрерывно увеличиваясь, это число с 8796276 поднялось до 10662423, хотя за тот же промежуток времени население увеличилось только на 2 млн. Отсюда ясный вывод, что каждая семья должна насчитывать меньшее число членов. Итак, факты далеко не подтверждают обыденного мнения, что самоубийства вызываются главным образом тяготами жизни; наоборот, число их уменьшается по мере того, как существование становится тяжелее. Вот неожиданное последствие мальтузианизма, которого автор его, конечно, не предполагал. Когда Мальтус рекомендовал воздержание от деторождения, то он думал, что по крайней мере в известных случаях это ограничение необходимо ради общего блага. В действительности оказывается, что воздержание это является настолько сильным злом, что убивает в человеке самое желание жить. Большие семьи вовсе не роскошь, без которой можно обойтись и которую может себе позволить только богатый; это насущный хлеб, без которого нельзя жить. Как бы ни был беден человек, во всяком случае самое худшее помещение капитала — и притом с точки зрения чисто личного интереса — это капитализация части своего потомства. Этот вывод вполне согласуется с тем, к которому мы пришли выше. Чем объясняется влияние размеров семьи на число самоубийств? В данном случае нельзя прибегнуть для объяснения этого явления к помощи органического фактора, потому что если совершенное бесплодие является главным образом последствием физиологических причин, то нельзя сказать того же про недостаточную плодовитость, которая чаще всего носит добровольный характер и диктуется известным настроением умов. Больше того, размер семьи, как мы его определили, зависит не исключительно от рождаемости; мы видели, что там, где мало детей, могут играть роль иные факторы и, наоборот, большое число детей может оказаться безрезультатным, если дети фактически и последовательно не принимают участия в жизни семейной группы. Поэтому данное предохраняющее свойство можно скорее приписать чувствам sui generis родителей к своим непосредственным потомкам. Наконец, эти чувства сами по себе нуждаются в некотором определенном состоянии семейной обстановки, для того чтобы проявить себя вполне; они не могут быть сильными, если семья лишена внутреннего единства. Следовательно, именно в силу того, что характер семьи меняется в зависимости от ее размеров, число составляющих ее элементов оказывает влияние на наклонность к самоубийству. Сплоченность какой-либо группы не может уменьшиться без того, чтобы не изменилась ее жизненная сила. Если коллективные чувства обладают исключительной энергией, то это происходит потому, что та сила, с которой каждое индивидуальное сознание переживает их, отражается на всех остальных членах. Интенсивность этих чувств находится в прямой зависимости от числа переживающих их совместно индивидуальных сознаний. Здесь мы находим объяснение тому обстоятельству, что, чем больше толпа, тем более склонны разыгрывающиеся в ней страсти принять насильственный характер. Таким образом, в небольшой семье общие чувства и воспоминания не могут быть особенно интенсивны, ибо здесь нет достаточного числа сознаний для того, чтобы представить их себе и усилить их путем совместного переживания. Внутри такой семьи не могут создаться твердые традиции, служащие связующей целью для членов одной и той же семейной группы: подобные традиции переживают первоначальную семью и передаются от поколения к поколению. Кроме того, небольшая семья неизбежно отличается недолговечностью, а никакой лишенный длительности союз не может быть прочен. В нем не только слабо развиты коллективные состояния сознания, но самое число этих состояний очень ограничено, потому что существование их обусловливается той живостью и энергией, с которой передаются различные взгляды и впечатления от одного субъекта к другому; с другой стороны, самый обмен мыслей тем быстрее совершается, чем большее число людей в нем участвует. В достаточно обширном обществе этот круговорот мыслей происходит безостановочно, ибо всегда имеются соперничающие между собой социальные единицы; в противном случае их сношения могут носить только перемежающийся характер, и даже бывают такие моменты, когда всякая общая жизнь прекращается. Точно так же, когда семья ограничена по своему объему, то в каждый данный момент вместе оказываются только очень немногие члены, семейная жизнь едва влачит свое существование и бывают моменты, когда домашний очаг совсем пуст. Но если мы говорим о той или иной группе, что в ней меньше общей жизни, чем в какой-нибудь другой, то мы тем самым указываем, что она менее проникнута, менее захвачена общим духом; ведь жизнеспособность и энергия того или иного социального тела является только отражением интенсивности окружающей его коллективной жизни. Данное социальное тело тем более едино и способно сопротивляться, чем активнее и длительнее общение между его членами. Поэтому мы можем следующим образом дополнить предлагаемый нами вывод: поскольку семья является мощным предохранителем от самоубийства, она тем лучше оказывает свое воздействие, чем сильнее ее сплоченность. V Если бы статистические
исследования не ограничивались только недавним прошлым, было бы легко показать
с помощью того же метода, что закон этот приложим и к политическому обществу.
История говорит нам, что самоубийства вообще редко случаются в молодых
обществах*, стоящих на пути к развитию и концентрации, и что, напротив, число
их увеличивается по мере того, как растет общественный распад. * Не надо смешивать молодые,
только еще развивающиеся общества с обществами низшего порядка; в этих
последних самоубийство есть, наоборот, очень частое явление, как это будет
видно из следующей главы. В Греции и Риме самоубийство выступает на сцену вместе с разрушением организации древней общины, и его прогрессивное развитие отмечает вместе с тем последовательные стадии упадка. То же влияние можно наблюдать и в Оттоманской империи. Во Франции накануне революции общественные неурядицы, вызванные разложением старой социальной системы, привели, по свидетельству писателей того времени, к быстрому повышению числа самоубийств*. * Вот что писал Гельвеции в
1781 г.: «Расстройство финансов и изменение конституции государства
распространили всеобщее уныние. Многочисленные самоубийства в столице являются
тому печальным доказательством». Однако и независимо от свидетельств истории статистика самоубийств, хотя она и не заходит в прошлое дальше последних семидесяти лет, доставляет нам некоторые доказательства этого положения,— доказательства, преимуществом которых по сравнению с показаниями историков является большая точность. В литературе встречается мнение, что великие политические перевороты умножают число самоубийств. Но Морселли показал, что факты противоречат этому мнению. Все революции, имевшие место во Франции в течение XIX в., уменьшили количество самоубийств в тот период времени, когда они совершались. Общее число самоубийств, имевших место с 1804 г., падает в революционный 1830 год до уровня 1756 г., что дает внезапное уменьшение приблизительно на 10%. В 1848 г. падение это не менее значительно: общая годовая сумма понижается с 3647 до 3301. Далее, в 1848—1849 гг., кризис, только что разразившийся во Франции, проносится по всей Европе; количество самоубийств везде уменьшается, и уменьшение тем заметнее, чем сильнее и продолжительнее был криЗис. В Германии возбуждение было более сильно, чем в Дании, и борьба была более продолжительна, чем во Франции, где новое правительство образовалось немедленно; в соответствии с этим в германских государствах число самоубийств продолжает понижаться вплоть до 1849 г. В этом последнем году понижение достигает 13% в Баварии, 18% — в Пруссии; в Саксонии за один только 1848—49 гг. оно также равняется 18%. Если взять всю Францию в целом, то ни в 1851, ни в 1852 гг. мы не замечаем аналогичного явления. Число самоубийств остается постоянным. Но в Париже coup d'etat производит свой обычный эффект; несмотря на то что он совершился в декабре 1851 г., цифра самоубийств падает с 483 в 1851 г. до 446 в 1852г. (— 8%) и в 1853 г. остается еще на уровне 463. В этом факте можно было бы видеть доказательство того, что переворот сверху, совершенный в 1851 г., гораздо сильнее потряс Париж, чем провинцию, которая, по-видимому, осталась почти индифферентной. Однако влияние подобного рода кризисов вообще гораздо заметнее отражается на столице, нежели на департаментах. В 1830 г. в Париже падение равнялось 13% (269 случаев вместо 307 в предшествующем году и 359 в следующем); в 1848 г. оно составляло 32% (481 случай вместо 698). Даже чисто парламентские кризисы, несмотря на свою сравнительно малую интенсивность, имеют иногда тот же самый результат. Так, например, во Франции хроника самоубийств носит на себе явный след парламентского переворота 16 мая 1877 г., того возбуждения, которое за ним последовало, а также тех выборов, которые в 1889 г. положили конец булан-жистской агитации. В течение первых месяцев 1877 г. число самоубийств выше соответственного числа 1876 г. (1945 вместо 1784 с января по апрель включительно), и повышение это сохраняется в мае и июне. Лишь в конце последнего были распущены палаты и фактически начался избирательный период; по всей вероятности, именно в этот момент политические страсти были возбуждены всего сильнее, ибо в дальнейшем они должны были несколько успокоиться под влиянием времени и усталости. И мы видим, что в июле число самоубийств уже не превышает соответственной цифры предыдущего года, а спускается ниже ее на 14%. Если не считать легкой приостановки в августе, понижение это сохраняется, хотя и в меньшей степени, вплоть до ноября. В этот момент кризис заканчивается. Тотчас же по его окончании повышательное движение самоубийств, временно приостановленное, начинается снова. В 1889 г. интересующее нас явление обнаруживается еще ярче. Палата расходится в начале августа; избирательная агитация начинается немедленно и продолжается вплоть до конца сентября, когда и произошли выборы. И в августе наблюдается по сравнению с соответственным месяцем 1888 г. внезапное уменьшение числа самоубийств на 12%, которое сохраняется в сентябре, но более или менее быстро прекращается в октябре, т. е. в тот момент, когда борьба закончена. Великие национальные войны оказывают то же самое
влияние, как и политические волнения. В 1866 г., когда разражается война между
Австрией и Италией, число самоубийств как в той, так и в другой стране
понижается на 14%.
В 1864 г. наступает очередь Дании и Саксонии. В этой последней стране число самоубийств, составлявшее 643 на 1 млн жителей в 1863 г., упало в 1864 г. до 545, т.е. на 16%, чтобы в следующем 1865 г. снова подняться до 619. Что касается Дании, то, не имея сведений о числе ее самоубийств в 1863 г., мы не в состоянии сравнить его с числом 1864 г.; но мы знаем, что общий итог самоубийств в этом последнем году выражается цифрой (411), ниже которой число добровольных смертей ни разу не спускалось начиная с 1852 г. И так как в 1865 г. оно поднимается до 451, то, по всей вероятности, цифра 411 знаменует собой значительное понижение. Война 1870—1871 гг. имела такие же последствия для Франции и Германии. Можно было бы подумать, что это уменьшение вызвано тем обстоятельством, что во время войны часть населения призывается на военную службу, а в действующей армии чрезвычайно трудно, конечно, вести счет самоубийствам. Но женщины не менее мужчин участвуют в указанном понижении. В Италии число женских самоубийств со 130 в 1864 г. спускается до 117 в 1866г.; в Саксонии —со 133 в 1863г. до 120 в 1864 г. и до 114 в 1865 г. (уменьшение на 15%). В этой последней стране не менее значительное падение наблюдается и в 1870 г.: со 130 в 1869 г. число женских самоубийств спускается до 114 в 1870 г. и остается на этом уровне в 1871 г.; понижение равно 13%, т.е. выше, чем понижение, испытанное мужскими самоубийствами за то же время. В Пруссии в 1869 г. оканчивали жизнь самоубийством 616 женщин на 1 млн жителей, тогда как в 1871 г. таковых насчитывалось не более 540 (—13%). Мы знаем к тому же, что молодые люди в том возрасте, в каком они подлежат призыву, доставляют лишь небольшую долю самоубийц. Только в течение шести месяцев 1870 г. происходили военные действия; за это время 1 млн французов 25—30 лет дал самое большее сотню случаев самоубийства, тогда как разница между 1870 и 1869 гг. достигает 1057 случаев. Некоторые задавались вопросом, не проистекает ли внезапное понижение числа самоубийств в период кризиса оттого, что в это время органы администрации парализуются и установление числа случаев самоубийства совершается с меньшей точностью. Но многочисленные факты доказывают, что этой случайной причины недостаточно для объяснения рассматриваемого нами явления. Прежде всего оно отличается очень большой общностью. Оно имеет место одинаково у победителей и у побежденных, у тех, кто внедряется в чужую страну, и у тех, кто испытывает неприятельское нашествие. Мало того, в тех случаях, когда потрясение очень сильно, результаты его дают себя чувствовать долгое время спустя. Число самоубийств повышается лишь очень медленно; проходит несколько лет, прежде чем оно достигает своего первоначального уровня; это наблюдается даже в странах, где в нормальное время количество самоубийств растет регулярно из года в год. К тому же, хотя частичная неполнота регистрации возможна и даже вероятна в эти эпохи переворотов, понижение процента самоубийств, установленное статистикой, носит слишком постоянный характер, для того чтобы его можно было приписать кратковременному расстройству административных функций как главной причине. Далее, не все политические или национальные кризисы оказывают такое влияние, а лишь те из них, которые возбуждают страсти,— и в этом лучшее доказательство того, что перед нами не ошибка подсчета, а явление социально-психологического порядка. Мы уже отметили, что французские революции всегда сильнее отзывались на числе самоубийств в Париже, чем в департаментах, хотя в рядах провинциальной администрации они вызывали такое же замешательство, как и в рядах столичной. Очевидно, дело только в том, что события этого рода всегда интересовали провинциалов меньше, чем парижан, которые были их главными деятелями и стояли к ним всего ближе. Равным образом, в то время как великие национальные войны, подобные войне 1870—1871 гг., оказывали и во Франции, и в Германии могучее действие на ход самоубийств, войны, не затрагивавшие особенно глубоко народную массу, вроде крымской или итальянской, не обнаруживали заметного влияния на самоубийства. В 1854 г. произошло даже значительное повышение числа самоубийств (3700 случаев вместо 3415 в 1853 г.). Тот же самый факт наблюдается в Пруссии в течение войн 1864 и 1866 гг. Цифры остаются неподвижными в 1864 г. и немного повышаются в 1866-м. Причина в том, что войны эти были всецело обязаны инициативе профессиональных политиков и не разбудили народных страстей, подобно войне 1870 г. С этой же точки зрения интересно отметить, что в Баварии 1870 год не имел тех последствий, как в других немецких странах, особенно в Северной Германии. В Баварии в 1870 г. насчитывалось больше самоубийств, чем в 1869 г. (452 вместо 425). Только в 1871 г. наступает небольшое уменьшение; оно слегка усиливается в 1872 г., когда имело место не более 412 случаев, что, впрочем, составляет понижение всего на 9% по сравнению с 1869 г. и на 4% по сравнению с 1870. И однако, Бавария принимала в военных событиях такое же материальное участие, как и Пруссия; подобно Пруссии, она мобилизовала всю свою армию, и потому нет никакого основания предполагать, что расстройство административного механизма было там менее значительно. Вся разница в том, что ее моральное участие в событиях было не столь интенсивно. В самом деле, как известно, католическая Бавария более, чем какая-либо другая немецкая страна, жила всегда своей особой жизнью и ревностно отстаивала свою независимость. Она принимала участие в войне по воле своего короля, но без внутреннего увлечения. Поэтому она была гораздо слабее прочих союзных народов затронута тем великим общественным движением, которое охватило в то время Германию; его отраженное влияние дало себя почувствовать в ней лишь гораздо слабее. Энтузиазм явился лишь по окончании войны и был очень умеренным. Только восторженное упоение славой, разгоревшееся в Германии на другой день после победы 1870 г., смогло несколько подогреть Баварию, до того момента совершенно холодную и спокойную. С этим фактом можно сопоставить следующий, вполне аналогичный ему. Во Франции в течение 1870— 1871 гг. число самоубийств упало только в городах. Не подлежит сомнению, что в деревнях регистрация затруднена еще более, чем в городах. Следователь-184 но, не здесь надо искать действительной причины этой разницы. Причина состоит в том, что война оказывает все свое моральное воздействие только на городское население, более отзывчивое, более впечатлительное, чем сельское, и вместе с тем более, чем это последнее, стоящее в курсе событий. Таким образом, вышеприведенные факты допускают лишь одно объяснение. И объяснение это заключается в том, что великие социальные перевороты, как и великие национальные войны, оживляют коллективные чувства, пробуждают дух партийности и патриотизма, политическую веру и веру национальную и, сосредоточивая индивидуальные энергии на осуществлении одной цели, создают в обществе — по крайней мере на время — более тесную сплоченность. Не самый кризис оказывает то благотворное влияние, которое мы только что установили, но та социальная борьба, которая этот кризис создает. Так как борьба эта заставляет людей сближаться между собой перед лицом общей опасности, отдельные лица начинают меньше думать о себе, больше об общем деле. И само собой понятно, что такая интеграция может не ограничиваться самым моментом опасности, но в некоторых случаях — особенно если она очень интенсивна,—способна пережить те причины, которые ее непосредственно вызвали. VI Мы последовательно установили следующие три положения: Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции религиозного общества. Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции семейного общества. Число самоубийств изменяется обратно пропорционально степени интеграции политического общества. Из этого сопоставления видно, что если эти различ¬ные общества оказывают на самоубийства умеряющее влияние, но не в силу каких-либо особенностей, присущих каждому из них, а в силу общей им всем причины. Не специфическая природа религиозных чувств дает религии силу воздействовать на число самоубийств, ибо семья и политическое общество, когда они крепко сплочены, обнаруживают одинаковое влияние; впрочем, мы это уже доказали выше, изучая непосредственно действие различных религий на самоубийство. В свою очередь специфические черты семейного и политического союза не могут нам объяснить оказываемого ими умеряющего влияния на развитие самоубийств, потому что то же влияние наблюдается и со стороны религиозного общества. Причина может лежать только в каком-нибудь общем для всех них свойстве, которым обладают все эти социальные группы, хотя и в разной степени. Единственно, что удовлетворяет такому условию,— это тот факт, что все они представляют собой тесно сплоченные социальные группы. Мы приходим, следовательно, к нашему общему выводу: число самоубийств обратно пропорционально степени интеграции тех социальных групп, в которые входит индивид. Но сплоченность общества не может ослабиться без того,
чтобы индивид в той же мере не отставал от социальной жизни, чтобы его личные
цели не перевешивали стремления к общему благу,— словом, без то Но каким образом самоубийство может иметь такое происхождение? Ясно прежде всего, что коллективная связь, будучи одним из препятствий, задерживающих всего сильнее самоубийства, не может ослабеть, не увеличивая тем самым число самоубийств. Когда общество тесно сплочено, то индивидуальная воля находится как бы в его власти, занимает по отношению к нему чисто служебное положение, и, конечно, индивид при таких условиях не может по своему усмотрению располагать собою. Добровольная смерть является здесь изменой общему долгу. Но когда люди отказываются признать законность такого подчинения, то какой силой обладает общество для того, чтобы утвердить по отношению к ним свое верховенство? В его распоряжении нет достаточного авторитета для того, чтобы удержать людей на их посту в тот момент, когда они хотят дезертировать, и, сознавая свою слабость, общество доходит до признания за индивидом права делать то, чему оно бессильно воспрепятствовать. Раз человек признается хозяином своей жизни, он вправе положить ей конец. С другой стороны, у индивидов отпадает один из мотивов к тому, чтобы безропотно терпеть жестокие жизненные лишения. Когда люди объединены и связаны любовью с той группой, к которой они принадлежат, то они легко жертвуют своими интересами ради общей цели и с большим упорством борются за свое существование. Одно и то же чувство побуждает их преклоняться перед стремлением к общему благу и дорожить своею жизнью, а сознание великой цели, стоящей перед ними, заставляет их забыть о личных страданиях. Наконец, в сплоченном и жизненном обществе можно наблюдать постоянный обмен идей и чувств между всеми и каждым, и поэтому индивид не предоставлен своим единичным силам, но имеет долю участия в коллективной энергии, находит в ней поддержку в минуты слабости и упадка. Однако все это имеет только второстепенное значение. Крайний индивидуализм не только благоприятствует деятельности причин, вызывающих самоубийства, но может сам считаться одной из причин такого рода. Он не только устраняет препятствия, сдерживающие стремление людей убивать себя, но сам возбуждает это стремление и дает место специальному виду самоубийств, которые носят на себе его отпечаток. Надо обратить особенное внимание на это обстоятельство потому, что в этом состоит специальная природа рассматриваемого нами типа самоубийств и этим оправдывается название «эгоистическое самоубийство», которое мы ему дали. Что же именно в индивидуализме приводит к таким результатам? Часто высказывалось мнение, что в силу своего психологического устройства человек не может жить, если он не прилепляется духовно к чему-либо его превышающему и способному его пережить; эту психологическую особенность человека объясняли тем, что наше сознание не может примириться с перспективой полного исчезновения. Говорят, что жизнь терпима только тогда, если вложить в нее какое-нибудь разумное основание, какую-нибудь цель, оправдывающую все ее страдания, что индивид, предоставленный самому себе, не имеет настоящей точки приложения для своей энергии. Человек чувствует себя ничтожеством в общей массе людей; он ограничен узкими пределами не только в пространстве, но и во времени. Если наше сознание обращено только на нас самих, то мы не можем отделаться от мысли, что в конечном счете все усилия пропадают в том «ничто», которое ожидает нас после смерти. Грядущее уничтожение ужасает нас. При таких условиях невозможно сохранить мужество жить дальше, т. е. действовать и бороться, если все равно из всего затрачиваемого труда ничего не останется. Одним словом, позиция эгоизма противоречит человеческой природе, и поэтому она слишком ненадежна для того, чтобы иметь шансы на долгое существование. Но в такой абсолютной форме это положение представляется очень спорным. Если бы действительно мысль о конце нашего бытия была нам в такой степени нестерпима, то мы могли бы согласиться жить только при условии самоослепления и умышленного убеждения себя в ценности жизни. Ведь если можно до известной степени замаскировать от нас перспективу ожидающего нас «ничто», мы не можем воспрепятствовать ему наступить: что бы ни делали мы — оно неизбежно. Мы можем добиться только того, что память о нас будет жить в нескольких поколениях, что наше имя переживет наше тело; но всегда неизбежно наступит момент, и для большинства людей он наступает очень быстро, когда от памяти о них ничего не остается. Те группы, к которым мы примыкаем для того, чтобы при их посредстве продолжалось наше существование, сами смертны в свою очередь; они также обречены разрушиться в свое время, унеся с собой все, что мы вложили в них своего. В очень редких случаях память о какой-нибудь группе настолько тесно связана с человеческой историей, что ей обеспечено столь же продолжительное существование, как и самому человечеству. Если бы у нас действительно была такая жажда бессмертия, то подобная жалкая перспектива никогда не могла бы нас удовлетворить. В конце концов, что же остается после нас? Какое-нибудь слово, один звук, едва заметный и чаще всего безымянный след. Следовательно, не останется ничего такого, что искупало бы наши напряженные усилия и оправдывало их в наших глазах. Действительно, хотя ребенок по природе своей эгоистичен и мысли его совершенно не заняты заботами о будущей жизни и хотя дряхлый старик в этом, а также и во многих других отношениях очень часто ничем не отличается от ребенка, тем не менее оба они больше, чем взрослый человек, дорожат своим существованием. Выше мы уже видели, что случаи самоубийства чрезвычайно редки в течение первых 15 лет жизни и что уменьшение числа самоубийств наблюдается также в глубокой старости. То же можно сказать и относительно животных, психологическое строение которых лишь по степени отличается от человеческого. Неверно поэтому утверждение, что жизнь возможна лишь при том условии, если смысл жизни находится вне ее самой. В самом деле, существует целый ряд функций, в которых заинтересован только единичный индивидуум: мы говорим о тех функциях, которые необходимы для поддержания его физического существования. Так как они специально для этой цели предназначены, то они осуществляются в полной мере всякий раз, как эта цель достигается. Следовательно, во всем, что касается этих функций, человек может действовать разумно, не ставя себе никаких превосходящих его целей; функции эти уже тем самым, что они служат человеку, получают вполне законченное оправдание. Поэтому человек, поскольку у него нет других потребностей, сам над собой довлеет и может жить вполне счастливо, не имея другой цели, кроме той, чтобы жить. Конечно, взрослый и цивилизованный человек не может жить в таком состоянии; в его сознании накопляется множество идей, самых различных чувств, правил, не стоящих ни в каком отношении к его органическим потребностям. Искусство, мораль, религия, политика, сама наука вовсе не имеют своею целью ни правильного функционирования, ни восстановления физических органов человека. Вся сверхфизическая жизнь образовалась вовсе не под влиянием космической среды, но проснулась и развилась под действием социальной среды. Происхождением чувств симпатии к ближним и солидарностью с ними мы обязаны влиянию общественности. Именно общество, создавая нас по своему образцу, внушило нам те религиозные и политические убеждения, которые управляют нашими поступками. Мы развиваем наш интеллект ради того, чтобы исполнить наше социальное предназначение, и само общество, как сокровищница знания, снабжает нас орудиями для нашего умственного развития. Уже в силу того, что высшие формы человеческой деятельности имеют коллективное происхождение, они преследуют коллективную же цель, поскольку они зарождаются под влиянием общественности, постольку к ней же относятся и все их стремления; можно сказать, что эти формы являются самим обществом, воплощенным и индивидуализированным в каждом из нас. Но для того, чтобы подобная деятельность имела в наших глазах разумное основание, самый объект, которому она служит, не должен быть для нас безразличным. Мы можем быть привязаны к первой лишь в той мере, в какой мы привязаны и ко второму, т. е. к обществу. Наоборот, чем сильнее мы оторвались от общества, тем более мы удалились от той жизни, для которой оно одновременно является и источником, и целью. К чему эти правила морали, нормы права, принуждающие нас ко всякого рода жертвам, эти стесняющие нас догмы, если вне нас нет существа, которому все это служит и с которым мы были бы солидарны? Зачем тогда существует наука? Если она не приносит никакой другой пользы, кроме той, что увеличивает наши шансы в борьбе за жизнь, то она не стоит затрачиваемого на нее труда. Инстинкт лучше исполняет эту роль; доказательством служат животные. Какая была надобность заменять инстинкт размышлением, менее уверенным в себе и более подверженным ошибкам? И в особенности, чем оправдать переносимые нами страдания? Испытываемое индивидуумом зло ничем не может быть оправдано и становится совершенно бессмысленным, раз ценность всего существующего определяется с точки зрения отдельного человека. Для человека твердо религиозного, для того, кто тесными узлами связан с семьей или определенным политическим обществом, подобная проблема даже не существует. Добровольно и свободно, без всякого размышления, такие люди отдают все свое существо, все свои силы: один — своей церкви, или своему Богу, живому символу той же церкви, другой—своей семье, третий — своей родине или партии. В самых своих страданиях эти люди видят только средство послужить прославлению группы, к которой они принадлежат и которой этим они выражают свое благоговение. Таким образом христианин достигает того, что преклоняется перед страданием и ищет его, чтобы лучше доказать свое презрение к плоти и приблизиться к своему божественному образцу. Но поскольку верующий начинает сомневаться, т. е. поскольку он эмансипируется и чувствует себя менее солидарным с той вероисповедной средой, к которой он принадлежит, поскольку семья и общество становятся для индивида чужими, постольку он сам для себя делается тайной и никуда не может уйти от назойливого вопроса: зачем все это нужно? Другими словами, если, как часто говорят, человек по натуре своей двойствен, то это значит, что к человеку физическому присоединяется человек социальный, а последний неизбежно предполагает существование общества, выражением которого он является и которому он предназначен служить. И как только оно разбивается на части, как только мы перестаем чувствовать над собой его животворную силу, тотчас же социальное начало, заложенное внутри нас, как бы теряет свое объективное существование. Остается только искусственная комбинация призрачных образов, фантасмагория, рассеивающаяся от первого легкого прикосновения мысли; нет ничего такого, что бы могло дать смысл нашим действиям, а между тем в социальном человеке заключается весь культурный человек; только он дает цену нашему существованию. Вместе с тем мы утрачиваем всякое основание дорожить своею жизнью; та жизнь, которая могла бы нас удовлетворить, не соответствует более ничему в действительности, а та, которая соответствует действительности, не удовлетворяет больше нашим потребностям. Так как мы были приобщены к высшим формам существования, то жизнь, которая удовлетворяет требованиям ребенка и животного, уже не в силах больше удовлетворить нас. Но раз эти высшие формы ускользают от нас, мы остаемся в совершенно беспомощном состоянии; нас охватывает ощущение трагической пустоты, и нам не к чему больше применить свои силы. В этом отношении совершенно справедливо говорить, что для полного развития нашей деятельности необходимо, чтобы объект ее превосходил нас. Не для того нужен нам этот объект, чтобы он поддерживал в нас иллюзию невозможного бессмертия; но он как таковой подразумевается самой нашей моральной природой; и если он исчезает, хотя бы только отчасти, то в той же мере и наша моральная жизнь теряет всякий смысл. Совершенно лишне доказывать, что при таком состоянии психической дисгармонии незначительные неудачи легко приводят к отчаянным решениям. Если жизнь теряет всякий смысл, то в любой момент можно найти предлог покончить с нею счеты. Но это еще не все. Подобное чувство оторванности от жизни наблюдается не только у отдельных индивидов. В число составных элементов всякого национального темперамента надо включить и способ оценки значения жизни. Подобно индивидуальному настроению существует коллективное настроение духа, которое склоняет народ либо в сторону веселья, либо печали, которое заставляет видеть предметы или в радужных, или в мрачных красках. Мало того, только одно общество в состоянии дать оценку жизни в целом; отдельный индивид здесь не компетентен. Отдельный человек знает только самого себя и свой узкий горизонт; его опыт слишком ограничен для того, чтобы служить основанием для общей оценки. Человек может думать, что его собственная жизнь бесцельна, но он не может ничего сказать относительно других людей. Напротив, общество может, не прибегая к софизмам, обобщить свое самочувствие, свое состояние здоровья или хилости. Отдельные индивиды настолько тесно связаны с жизнью целого общества, что последнее не может стать больным, не заразив их; страдания общества неизбежно передаются и его членам; ощущения целого неизбежно передаются его составным частям. Поэтому общество не может ослабить свои внутренние связи, не сознавая, что правильные устои общей жизни в той же мере поколеблены. Общество есть цель, которой мы отдаем лучшие силы нашего существа, и поэтому оно не может не сознавать, что, отрываясь от него, мы в то же время утрачиваем смысл нашей деятельности. Так как мы являемся созданием общества, оно не может сознавать своего уцадка, не ощущая при этом, что создание его опплие не служит более ни к чему. Таким путем обыкновенно образовываются общественные настроения уныния и разочарования, которые не проистекают, в частности, от одного только индивида, но выражают собой состояние разложения, в котором находится общество. Они свидетельствуют об ослаблении специальных уз, о своеобразном коллективном бесчувствии, о социальной тоске, которая, подобно индивидуальной грусти, когда она становится хронической, свидетельствует на свой манер о болезненном органическом состоянии индивидов. Тогда появляются на сцене те метафизические и религиозные системы, которые, формулируя эти смутные чувства, стараются доказать человеку, что жизнь не имеет смысла и что верить в существование этого смысла — значит обманывать самого себя. Новая мораль заступает на место старой и, возвышая факт в право, если не советует и не предписывает самоубийства, то по крайней мере направляет в его сторону человеческую волю, внушая человеку, что жить надо возможно меньше. В момент своего появления мораль эта кажется изобретенной всевозможными авторами, и их иногда даже обвиняют в распространении духа упадка и отчаяния. В действительности же эта мораль является следствием, а не причиной; новые учения о нравственности только символизируют на абстрактном языке и в систематической форме физиологическую слабость социального тела. И поскольку эти течения носят коллективный характер, постольку в силу самого своего происхождения они носят на себе оттенок особенного авторитета в глазах индивида и толкают его с еще большей силой по тому направлению, по которому влечет его состояние морального распада, вызванного в нем общественной дезорганизацией. Итак, в тот момент, когда индивид резко отдаляется от общества, он все еще ощущает на себе следы его влияния. Как бы ни был индивидуален каждый человек, внутри его всегда остается нечто коллективное: это уныние и меланхолия, являющиеся следствием крайнего индивидуализма. Обобщается тоска, когда нет ничего другого для обобщения. Рассмотренный выше тип самоубийств вполне оправдывает данное ему нами название; эгоизм является здесь не вспомогательным фактором, а производящей причиной. Если разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это происходит потому,1 что ослабла связь его с обществом. Что же касается фактов частной жизни, кажущихся непосредственной и решающей причиной самоубийства, то в действительности они могут быть признаны только случайными. Если индивид так легко склоняется под ударами жизненных обстоятельств, то это происходит потому, что состояние того общества, к которому он принадлежит, сделало из него добычу, уже совершенно готовую для самоубийства. Несколько примеров подтверждают наше положение. Мы знаем, что самоубийство среди детей — факт совершенно исключительный и что с приближением глубокой старости наклонность к самоубийству ослабевает; в обоих случаях физический человек захватывает все существо индивида. Для детей общества еще нет, так как оно еще не успело сформировать их по образу своему и подобию; от старика общество уже отошло, или — что сводится к тому же — он отошел от общества. В результате и ребенок, и старик более, чем другие люди, могут удовлетворяться сами собой; они меньше других людей нуждаются в том, чтобы пополнять себя извне, и, следовательно, скорее других могут найти все то, без чего нельзя жить. Отсутствие самоубийства у животных имеет такое же объяснение. В следующей главе мы увидим, что если общества низшего порядка практикуют особую, только им свойственную форму самоубийства, то тот тип, о котором мы только что говорили, им совершенно неизвестен. При несложности общественной жизни социальные наклонности всех людей имеют одинаковый характер и в силу этого нуждаются для своего удовлетворения в очень немногом; а кроме того, такие люди легко находят вне себя объект, к которому они могут прилепиться. Если первобытный человек, отправляясь в путешествие, мог увезти с собою своих богов и свою семью, то он уже тем самым имел все, чего требовала его социальная природа. Здесь мы находим также объяснение тому обстоятельству, почему женщина легче, чем мужчина, переносит одиночество. Когда мы видим, что вдова скорее, чем вдовец, мирится со своею участью и с меньшей охотой ищет возможности второго брака, то можно подумать, что эта способность обходиться без семьи может быть отнесена на счет превосходства ее над мужчиной; говорят, что аффективные женщины, будучи по природе своей очень интенсивными, легко находят себе применение вне круга домашней жизни, тогда как мужчине необходима женская преданность для того, чтобы помочь ему переносить жизненные затруднения. В действительности если женщина и обладает подобной привилегией, то скорее в силу того, что чувствительность у нее недоразвита, чем в силу того, что она развита чрезмерно. Поскольку она больше, чем мужчина, живет в стороне от общественной жизни, постольку она меньше проникнута интересами этой жизни. Общество ей менее необходимо, так как она менее проникнута общественностью; потребности ее почти не обращены в эту сторону, и она с меньшей, чем мужчина, затратой сил удовлетворяет им. Не вышедшая замуж женщина считает свою жизнь заполненной выполнением религиозных обрядов и ухаживанием за домашними животными. Если такая женщина остается верной религиозным традициям и вследствие этого имеет надежное убежище от самоубийства,— это значит, что очень несложных социальных форм достаточно для удовлетворения всех ее требований. Наоборот, мужчина нашего времени чувствует себя стесненным религиозной традицией; по мере своего развития мысль его, воля и энергия выступают из этих архаических рамок; но на место их ему нужны другие; как социальное существо более сложного типа, он только тогда сохраняет равновесие, когда вне себя находит много точек опоры; и так как моральная устойчивость его зависит от множествах^нешних условий, то вследствие этого она легче и нарушается. ГЛАВА IV. АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВОНичто чрезмерное не может считаться хорошим в общем порядке жизни. Та или иная биологическая способность может выполнять предназначенные ей функции только при условии соблюдения известных пределов. То же самое следует сказать и о социальных явлениях. Если, как мы только что видели, крайний индивидуализм приводит человека к самоубийству, то недостаточно развитая индивидуальность должна приводить к тем же результатам. Когда человек отделился от общества, то в нем легко зарождается мысль покончить с собой; то же самое происходит с ним и в том случае, когда общественность вполне и без остатка поглощает его индивидуальность. I Часто можно встретиться с мнением, что самоубийство незнакомо обществам низшего порядка; правда, только что рассмотренный нами эгоистический тип самоубийства может быть частным явлением в этой среде, но зато мы встречаемся здесь с другим, эндемическим, вид ом самоубийства. Bartholin в своей книге «De causis contempae mortisa Danis» говорит, что датские воины считали позором для себя умереть на своей постели или покончить свои дни от болезни и в глубокой старости, и, для того чтобы избежать такого позора, сами кончали с собой. Точно так же готы думали, что люди, умирающие естественною смертью, обречены вечно гнить в пещерах, наполненных ядовитыми животными. На границе вестготских владений возвышалась высокая скала, носившая название «скалы предков», с которой старики бросались вниз и умирали, когда жизнь становилась им в тягость. У фракийцев и герулов можно найти тот же обычай. Silvius It aliens говорит следующее об испанских кельтах: «Это народ, обильно проливающий свою кровь и как бы ищущий смерти. Как только кельт вступает в возраст, следующий за полным физическим расцветом, он с большой нетерпеливостью переносит свое существование и, презирая старость, не хочет дожидаться естественной смерти; своими руками кладет он конец своему существованию». По их мнению, людей, добровольно обретших смерть, ожидает блаженная жизнь, и, наоборот, для того, кто умер от болезни или старческой дряхлости, уготована ужасная преисподняя. В Индии долгое время существовал такой же обычай. Благосклонного отношения к самоубийству, может быть, еще нельзя найти в книге Вед, но, во всяком случае, оно имеет очень древнее происхождение. Плутарх говорит следующее по поводу самоубийства брамина Калана: «Он принес сам себя в жертву, согласно существовавшему среди мудрецов той страны обычаю». Квинт Курций пишет: «Среди них существует особый род грубых и диких людей, которым дается имя мудрецов; в их глазах считается заслугой предупредить день своей смерти, и они сжигают себя заживо, как только наступает старость или приходит болезнь. Ожидать спокойно своей смерти считается бесчестьем жизни; тела людей, умерших от старости, не удостаиваются никаких ^почестей; огонь считается оскверненным, если жертва еУо бездыханна». Аналогичные факты наблюдались на островах Фиджи, Новых Гебридах, у мангов и т. д. В Кеосе люди, переступившие известный возраст, собирались на торжественном празднестве с головами, украшенными цветами, и весело пили цикуту. Те же самые обычаи существовали у троглидитов и у Сиропэонов, прославивших себя своею высокою нравственностью. Известно, что помимо стариков у этих же народов подобная участь ожидала вдов. Этот варварский обычай настолько внедрился в практику индусов, что никакие усилия англичан не могут уничтожить его. В 1817 г. в одной только бенгальской провинции покончили с собой 716 вдов, в 1821 г. на всю Индию приходилось 2366 таких случаев. Кроме того, если умирает принц крови или вождь, то за ним обязаны последовать все его слуги. Так бывало и в Таллии. Анри Мартен говорит, что похороны вождей представляли собой кровавые гекатомбы; вся одежда их, оружие, лошади, любимые рабы следовали за умершим господином, к ним присоединялись преданные воины, не нашедшие себе смерти в последнем бою, и все они предавались торжественному сожжению. Ни один преданный воин не должен был переживать своего вождя. У ашантиев после смерти короля его приближенные должны были покончить с собою. Наблюдатели встречались с подобными же обычаями на островах Гаваи. Итак, мы видим, что у первобытных народов самоубийство— явление очень частое, но имеет свои характерные особенности. В самом деле, все выше изложенные нами факты могут быть отнесены к одной из трех нижеследующих категорий: 1) Самоубийство людей престарелых или больных. 2) Самоубийство жен после смерти мужей. 3) Самоубийство рабов, слуг и т. д. после смерти хозяина или начальника. Во всех этих случаях человек лишает себя жизни не потому, что он сам хотел этого, а в силу того, что он должен был так сделать. Если он уклоняется от исполнения этого долга, то его ожидает бесчестье и чаще всего религиозная кара. Вполне естественно, что когда нам говорят о стариках, которые кончают с собою, то по первому впечатлению можно думать, что мы имеем здесь дело с человеком, уставшим от жизни, от невыносимых страданий, свойственных этому возрасту. Но если бы действительно самоубийство в данном случае не имело другого объяснения, если бы индивид убивал себя исключительно для того, чтобы избавиться от тяжкой жизни, то нельзя было бы сказать, что он обязан делать это. Нельзя человека заставлять пользоваться привилегией. Однако мы видим, что если он продолжает жить, то тем самым он лишается общего уважения; ему отказывают в установленных погребальных почестях, и, по общему верованию, его ожидают за гробом ужасные мучения. Общество оказывает на индивида в данном случае определенное психическое давление для того, чтобы он непременно покончил с собой. Конечно, общество играет некоторую роль и в эгоистическом самоубийстве, но влияние его далеко не одинаково в этих двух случаях. В первом случае роль его исчерпывается тем, что оно теряет связь с индивидом и делает его существование беспочвенным; во втором оно формально предписывает человеку покончить с жизнью. В первом случае оно внушает и, самое большее, советует, во втором оно обязывает и само определяет условия и обстоятельства, при которых обязательство это должно быть выполнено. И общество требует подобного самопожертвования в социальных интересах. Если клиент не должен переживать своего патрона, а слуга — своего господина, значит, общественное устройство устанавливает между покровительствуемым и покровителем, между королем и его приближенными настолько тесную связь, что не может быть и речи об отделении одних от других, и участь, ожидающая их всех, должна быть одинакова. Подданные должны всюду следовать за своим господином, даже в загробной жизни, точно так же, как его одежды ~и его оружие; если бы был допустим иной порядок, социальная иерархия не была бы вполне тем, чем она должна быть. Тот же характер носит отношение жены к мужу. Что касается стариков, которые обязаны не дожидаться естественной смерти, то, по всей вероятности, этот обычай, по крайней мере в большинстве случаев, покоится на мотивах религиозного порядка. В самом деле, дух, покровительствующий семье, поселяется в ее главе; с другой стороны, принято думать, что бог, обитающий в чужом теле, участвует в жизни этого тела, болеет и стареет -вместе с ним. Время не может расшатать силы одного без того, чтобы целая группа не оказалась в положении, угрожающем ее существованию, раз охраняющее ее божество лишилось всякой силы. Поэтому в общих интересах отец не должен ожидать крайнего срока своей земной жизни, чтобы вовремя передать своим наследникам тот драгоценный дар, который он хранит в себе. Такого объяснения вполне достаточно для того, чтобы понять, чем вызывается этот вид самоубийства. Если общество может принуждать некоторых из своих членов к самоубийству, то это обстоятельство обозначает, что индивидуальная личность в данной среде ценится очень низко. Первый признак самоопределения личности — это признание за собою права на жизнь, права, которое нарушается только в исключительных случаях, как, например, во время войны. Но эта слабая степень индивидуализации может в свою очередь иметь только одно объяснение. Для того чтобы индивид занимал такое незначительное место на фоне коллективной жизни, необходимо почти полное поглощение его личности той группой, к которой он принадлежит, и, следовательно, эта последняя должна являться очень крепко сплоченной. Но составные части могут в такой ничтожной степени пользоваться самостоятельным существованием лишь в том случае, если целое представляет собою компактную и сплошную массу. И действительно, в другом месте мы показали, что в обществе, где наблюдаются подобные обычаи, имеется налицо такая крепкая спаянность его отдельных частиц. В силу немногочисленности составных элементов общества они все живут однородной жизнью и имеют общие идеи, чувства, занятия. В то же время, опять-таки в силу той же незначительности самой группы, она близка к каждому своему члену и легко может не терять его из виду; в результате коллективное наблюдение не прекращается ни на минуту, касается всех сторон жизни индивида и сравнительно легко предупреждает всякого рода расхождение его с группой. В распоряжении индивида не имеется, таким образом, средств создать себе особую среду, под защитой которой он мог бы развить все свои индивидуальные качества, выработать свою собственную физиономию. Ничем не отличаясь от других членов группы, индивид является только, так сказать, некоторой частью целого, не представляя сам по себе никакой ценности. При таких условиях личность ценится так дешево, что покушения против нее со стороны частных лиц вызывают только очень слабую репрессию. Вполне естественно, что личность еще менее защищена от коллективных требований; и общество, нисколько не колеблясь, требует от нее по самому ничтожному поводу прекращения жизни, которая так мало им ценится. Можно считать вполне установленным, что здесь
мы имеем дело с типом самоубийства, резко отличающимся от рассмотренного выше.
В то время как последний объясняется крайним развитием индивидуализма, первый
имеет своей причиной недостаточное развитие индивидуализма. Один тип
самоубийства вытекает из того обстоятельства, что общество, разложившееся в
известных своих частях или даже в целом, дает индивиду возможность ускользнуть
из-под своего влияния; другой же тип есть продукт абсолютной зависимости
личности от общества. Если мы назвали «эгоизмом»
то состояние, когда человеческое «я» живет только личною жизнью и следует
только своей личной воле, то слово «альтруизм»
так же точно выражает обратное состояние, когда «я» не принадлежит самому
человеку, когда оно смешивается с чем-то другим, чем оно само, и когда центр
его деятельности находится вне его существа, но внутри той группы, к которой
данный индивид относится. Поэтому то самоубийство, которое вызывается
чрезмерным альтруизмом, мы и называем альтруистическим. Но так как характерным
для данного типа самоубийства является то обстоятельство, что оно совершается
во имя долга, то и в самой терминологии должна быть оттенена эта его
особенность; ввиду этого охарактеризованный нами сейчас тип самоубийства мы
будем называть обязательным
альтруистическим типом самоубийства. Наличность этих двух прилагательных необходима для полного определения данного типа, потому что не каждое альтруистическое самоубийство является обязательным. Существует целый ряд самоубийств, где властная рука общества чувствуется не в такой исключительной степени, и поэтому самоубийство носит более факультативный характер. Иначе говоря, альтруистическое самоубийство представляет собою некоторый вид, обнимающий различные разновидности. Одну из таких разновидностей мы уже рассмотрели,обратимся теперь к другим. В тех обществах, о которых мы только что говорили, или в других, однородных с ними, часто наблюдается самоубийство, имеющее своим непосредственным и наглядным мотивом какое-нибудь совершенно ничтожное обстоятельство. Тит Ливии, Цезарь, Валерий Максим говорят нам с удивлением, граничащим с восторгом, о том величавом спокойствии, с которым галльские и германские варвары кончали с собой. Некоторые кельты готовы были умереть ради денег или вина. Были среди них люди, не считавшие достойным отступать перед пламенем пожара или морским прибоем. Современные путешественники могли наблюдать подобные случаи в массе у диких народов. В Полинезии было достаточно самой легкой обиды для того, чтобы толкнуть человека на самоубийство; то же самое наблюдалось среди индейцев Северной Америки; достаточно супружеской ссоры или вспышки ревности, для того чтобы мужчина или женщина кончали с собой. У племени Дакота и Криксы малейшее огорчение вызывает самое отчаянное решение. Известна та легкость, с которой японцы вспарывают себе живот по самому незначительному поводу; передают, что существует даже особый вид дуэли, при котором состязаются не в искусстве нанесения ударов противнику, а в проворстве вспарывания себе живота своими собственными руками. Аналогичные факты наблюдаются в Китае, Кохинхине, Тибете и Сиамском королевстве. Во всех этих случаях человек лишает себя жизни без явно выраженного к тому принуждения. Однако этот вид самоубийства по природе своей ничем не отличается от обязательного. Если общественное мнение формально не предписывает здесь покончить с собой, то относится к этому благосклонно. Если считается добродетелью и даже добродетелью par excllence не дорожить своею жизнью, то наибольшие похвалы вызывает тот, кто уходит из жизни под влиянием самого легкого побуждения или даже просто ради бравады. Самоубийство как бы удостаивается общественной премии, которая действует на человека воодушевляющим образом, и лишение этой награды имеет те же последствия, хотя и в меньшей степени, как само наказание. То, что делается в одном случае для избежания позора, повторяется в другом с целью завоевания большего уважения. Если с самого детства человек привыкает дешево ценить «свою» жизнь и презирать людей, слишком к ней привязанных, то вполне понят¬но и неизбежно, что он кончает с собой под влиянием самого незначительного предлога. Вполне естественно, что человек без всякого труда решается на жертву, которая для него так мало стоит. Так же, как и обязательное самоубийство, явление это составляет самую основную черту морали обществ, принадлежащих к низшему порядку. Так как такие общества могут существовать лишь при отсутствии у индивида всяких личных интересов, то необходимо, чтобы этот последний был воспитан в духе полного самоотречения и самоотвержения; отсюда вытекают этого рода самоубийства, в значительной своей части добровольные. Точно так же, как и в том случае, когда общество более определенно предписывает индивиду покончить с собой, рассматриваемые самоубийства вызываются тем состоянием безличности или, как мы назвали его выше, «альтруизма», которым характеризуется вооо-ще мораль первобытного человека. Поэтому эту разновидность самоубийства мы также называем альтруистической, и если с целью сильнее оттенить ее специальный признак мы прибавляем определение «факультативный», то это надо понимать в том смысле, что данный вид самоубийства менее настоятельно диктуется обществом, чем те самоубийства, которые являются результатом безусловного обязательства. Эти две разновидности настолько тесно сливаются между собой, что невозможно даже определить, где начинается одна и где кончается другая. Существует, наконец, целый ряд других случаев, когда альтруизм более непосредственно и с большей силой побуждает человека к самоубийству. В предыдущих примерах он влечет индивида к самоубийству только при наличии известных обстоятельств: или человеку требование умереть внушалось как долг, или каким бы то ни было образом затрагивалась его честь, или в силу какого-нибудь постигшего его несчастья жизнь совершенно теряла в его глазах всякую ценность. Но бывает и так, что человек убивает себя, упоенный исключительно самою радостью принесения себя в жертву, т. е. отречение от жизни само по себе и без всякой особой причины считается похвальным. Индия — классическая страна для подобных самоубийств; уже под влиянием одного брахманизма индусу легко покончить с собой. Правда, законы Ману говорят о самоубийстве с известным ограничением: человек должен достигнуть известного возраста или оставить после себя по крайней мере одного сына. Но, удовлетворив этим условиям, индус уже ничем не связан с жизнью. «Брахман, освободившийся от своего тела при помощи одного из способов, завещанных нам великими святыми без страха и горя, считается достойным быть допущенным в местопребывание Брахмы» («Законы Ману» VI.22). Хотя буддизму часто предъявляют обвинение в том, что он довел этот принцип до его крайних пределов и возвел самоубийство до степени религиозного обряда, но в действительности он скорее его осуждает. Конечно, согласно учению буддийской религии, нет высшего блаженства, как уничтожиться в Нирване; но такое отрешение от бытия может и должно быть осуществимо уже в земной жизни, и для его реализации нет надобности в насильственных средствах. Во всяком случае, идея о том, что человек должен бежать от жизни, настолько совпадает с мировоззрением индусов, что ее можно найти в различных видах во всех главных сектах, произошедших от буддизма или образовавшихся одновременно с ним; таков, например, джайнизм. Хотя одна из канонических книг этой секты осуждает самоубийство, обвиняя его в том, что оно преувеличивает цену жизни, надписи, собранные в очень большом количестве храмов, свидетельствуют, что, в особенности среди южных последователей этой секты, самоубийство на религиозной почве — явление очень распространенное; так, например, здесь люди часто обрекают себя на голодную смерть. Среди индусов очень распространен обычай искать смерти в водах Ганга и других священных рек. Найденные надписи говорят нам о королях и министрах, которые готовились кончить свои дни таким образом, и нас уверяют, что еще в начале XIX в. этот суеверный обычай был в полной своей силе. У племени Билъ есть скала, с вершины которой люди бросались в знак религиозной преданности божеству Шива; в 1822 г. один офицер присутствовал при жертвоприношении такого рода. Существует поистине классический рассказ о фанатиках, которые массами раздавливались колесами идола Джаггернаута. Шарлевуа наблюдал такого же рода ритуал в Японии. «Очень часто можно видеть,— говорит он,— вдоль берегов моря целый ряд лодок, наполненных фанатиками, которые или бросаются в воду, предварительно привязав к себе камни, или просверливают свои лодки и постепенно погружаются в море, распевая гимны в честь своих идолов. Громадная толпа зрителей следит глазами за ними, возносит до небес их добродетели и просит их благословить себя, прежде чем они исчезнут под водой». Последователи секты Амида заставляют замуровывать себя в пещерах, где едва можно поместиться в сидячем положении и куда воздух проходит только через отдушину, и затем спокойно умирают голодною смертью. Другие взбираются на вершины высочайших скал, под которыми покоятся залежи серы и по временам вылетает пламя. Стоя на вершине, фанатики громко взывают к богам, прося принять в жертву их жизнь и послать на них пламя. Как только появляется огненный язык, они приветствуют его как знак согласия богов и головой вниз бросаются в пропасть. Память этих так называемых мучеников пользуется большим почетом. Нет другого вида самоубийства, где бы сильнее был выражен альтруистический характер. Во всех этих случаях мы видим, как субъект стремится освободиться от своей личности для того, чтобы погрузиться во что-то другое, что он считает своею настоящей сущностью. Как бы ни называлась эта последняя, индивид верит, что он существует в ней и только в ней, и, стремясь к утверждению своего бытия, он вместе с тем стремится слиться воедино с этой сущностью. В этом случае человек не считает своего теперешнего существования действительным. Безличность достигает здесь своего максимума, и альтруизм выражен с полною ясностью. Но, возразят нам, не объясняется ли этот вид самоубийства только пессимистическим взглядом человека на жизнь? Ведь если человек с такой охотой убивает себя, он, очевидно, не дорожит жизнью и, следовательно, представляет ее себе в более или менее безотрадных тонах. При такой точке зрения все самоубийства оказались бы похожими друг на друга. Между тем было бы большой ошибкой не делать между ними никакого различия; рассматриваемое отношение к жизни не всегда зависит от одной и той же причины, и потому, несмотря на кажущееся совпадение, оно является неодинаковым в различных случаях. Если эгоист, не признающий ничего реального в мире, кроме своей личности, не знает в жизни радости, то его нельзя ставить на одну доску с крайним альтруистом, неудержимая скорбь которого происходит оттого, что существование индивидов ему кажется лишенным всякой реальности. Один отрывается от жизни, потому что не видит в ней для себя никакой цели и считает свое существование бессмысленным и бесполезным, другой убивает себя потому, что его желанная цель лежит вне этой жизни и последняя служит для него как бы препятствием. Различие мотивов сказывается, конечно, на последствиях, и меланхолия одного по природе своей глубоко разнится от меланхолии другого. Меланхолия первого создана чувством неизлечимой усталости и психической подавленности; она знаменует полный упадок деятельности, которая, не имея для себя никакого полезного применения, терпит окончательное крушение. Меланхолия альтруиста полна надежды: он верит, что по ту сторону этой жизни открываются самые радужные перспективы; подобное чувство вызывает даже энтузиазм, нетерпеливая вера стремится сделать свое дело и проявляет себя актом величайшей энергии. В конце концов одного более или менее мрачного взгляда на жизнь недостаточно для объяснения интенсивной наклонности к самоубийству у определенного народа. Так, например, пребывание на земле вовсе не рисуется христианину в более приветливом свете, чем последователю секты джайнов. Жизнь представляется христианину в виде цепи тяжких испытаний; христианская душа надеется обрести свою настоящую обитель тоже не на этой земле, но тем не менее мы знаем, какое отвращение к акту самоубийства проповедует и внушает христианство. Это обстоятельство объясняется тем, что христианские общества уделяют индивиду гораздо больше места, чем общества, о которых мы только что говорили. На каждом христианине лежат определенные личные обязанности, от исполнения которых он не может уклониться; только в зависимости от того, насколько хорошо верующий исполнит свой долг здесь, на земле, ему приуготовлены высшие радости и награды на небе, и эти радости — только личные, как и дела, которые дали на них право. Таким образом, умеренный индивидуализм, присущий духу христианства, помешал ему отнестись благосклонно к самоубийству наперекор его теориям о человеке и его судьбе. Системы метафизические и религиозные, служащие как бы логической рамкой для этих моральных обычаев, доказывают нам, что именно таково и есть их происхождение и значение. Уже давно замечено, что подобные системы существуют обыкновенно наряду с пантеистическими верованиями. Без сомнения, джайнизм, так же как и буддизм, атеистичен; но пантеизм, безусловно, еще теистичен. Главной характерной чертой пантеизма является идея о том, что все реальное в индивиде не относится к его природе, что душа, одухотворяющая его, не есть его душа и что в силу этого нет и не может быть индивидуального бытия. Именно эта догма и легла в основание учения индусов, она встречается уже в брахманизме. Наоборот, там, где начало существ не сливается с ними, но само мыслится в индивидуальной форме, т. е. у монотеистических народов, к которым принадлежат евреи, христиане, магометане, или у политеистов — греков, латинян — данная форма самоубийства является исключительной, и нигде нельзя встретиться с нею в качестве религиозного обычая. Следовательно, можно думать, что между этой формой самоубийства и пантеизмом действительно существует причинная связь. Так ли это? Допущение, что именно пантеизм вызвал этот род самоубийства, не может быть принято; людьми управляют не абстрактные идеи, и исторический ход событий нельзя объяснить игрой чистых метафизических понятий. У народов, так же как и у индивидов, представления имеют раньше всего своей задачей выразить ту реальность, которая не ими создана, но от которой, наоборот, сами они истекают и если затем могут видоизменить ее, то только в очень ограниченной степени. Религиозные концепции создаются социальной средой, а отнюдь не создают ее, и если, вполне сформировавшись, они реагируют в свою очередь на породившие их причины, то эта реакция не может быть особенно глубокой. Поэтому если основой пантеизма является более или менее коренное отрицание индивидуальности, то понятно, что подобная религия может образоваться только среди такого общества, где человеческая индивидуальность совсем не ценится, т. е. где она поглощена без остатка самим обществом. Человек не может представить себе мир иначе как по образцу того небольшого социального мирка, в котором он живет. Религиозный пантеизм поэтому есть только следствие и отражение пантеистической организации общества. Следовательно, этой последней и определяется тот особый вид самоубийства, который везде находится в связи с пантеистическим миропониманием. Таким образом, шы установили и второй тип самоубийств, состоящий в свою очередь из трех разновидностей: обязательное альтруистическое самоубийство, факультативное альтруистическое самоубийство и чисто альтруистическое самоубийство, совершеннейшим образцом которого служит самоубийство мистическое. Во всех этих формах альтруистическое самоубийство представляет поразительный контраст с эгоистическим. Первое связано с той жестокой моралью, которая не признает ничего, что интересует только одного индивида, второе — с той утонченной этикой, которая настолько высоко ставит человеческую личность, что эта личность не может уже более ничему подчиняться. Между этими двумя типами лежит все то расстояние, которое разделяет первобытные народы от народов, достигших вершин цивилизации. Однако если общества низшего порядка являются par excellence средой для альтруистического самоубийства, то это последнее встречается также и во времена более развитой цивилизации. Под эту рубрику, например, можно подвести известное число христианских мучеников. Многие из них были в сущности самоубийцами и если не кончали с собой собственноручно, то охотно позволяли убивать себя. Если они не сами умерщвляли себя, то всеми силами искали смерти и вели себя так. что неизбежно навлекали ее на себя. Для того чтобы признать в известном факте самоубийство, совершенно достаточно того, чтобы действие, неминуемо влекущее за собой смерть, было совершено в сознании этого последствия. С другой стороны, тот страстный энтузиазм, с которым первые христиане шли на смерть, показывает нам, что в этот момент они совершенно отрекались от своей личности ради той великой идеи, которой хотели быть носителями. Весьма вероятно, что эпидемические самоубийства, которые несколько раз опустошали средневековые монастыри и которые, по-видимому, создавались религиозным рвением, по характеру своему принадлежали к той же группе. В наших современных обществах, где индивидуальная личность все более и более эмансипируется от коллективной, подобный вид самоубийства не может быть частым явлением. Конечно, будет вполне правильно сказать, что и солдаты, предпочитающие смерть позору поражения, подобно коменданту Борепэру или адмиралу Вильневу, и несчастные, убивающие себя, чтобы избавить свою семью от бесчестья, поступают так в силу альтруистических мотивов. И те, и другие отказываются от жизни в силу того, что у них есть нечто такое, что они любят сильнее самих себя. Но вышеприведенные случаи носят исключительный характер. Однако и в настоящее время существует..социальная среда, где альтруистический тип самоубийств может считаться явлением обыденным,— это армия. Для всех европейских стран установлено, что склонность у военных к самоубийству значительно интенсивнее, чем у лиц гражданского населения того же возраста. Разница колеблется от 25 до 900%. Дания является единственной страной, где процент самоубийств в обеих группах населения почти совпадает: 388 случаев самоубийства на 1 млн среди гражданского элемента и 382 случая — среди солдат за период 1846—1856 гг. В эту цифру не входит число самоубийств среди офицеров. Этот факт тем сильнее поражает с первого взгляда, что, как казалось бы, очень многие причины предохраняют армию от самоубийств. Прежде всего надо взять во внимание, что в физическом отношении армия представляет собою цвет страны. Выбранные с большим старанием, солдаты не могут иметь значительных физических недостатков. Кроме того, корпоративный дух, совместная жизнь должны были бы оказывать здесь то профилактическое влияние, которое обыкновенно наблюдается в других подобных случаях. Чем же объясняется такое повышение процента самоубийств? Так как простые рядовые всегда не женаты, то в этом явлении хотели видеть результат холостой жизни; но прежде всего безбрачие не должно было бы в армии иметь таких печальных последствий, как среди гражданского населения, потому что, как мы уже говорили раньше, солдат не изолирован: он является членом твердо организованного общества, которое по характеру своему отчасти может заменить ему семью. Но как бы ни относились к соображениям, на которых покоится эта гипотеза, у нас всегда есть средство фактически проверить его, изолировав данный фактор; для этого достаточно сравнить число самоубийств солдат с числом самоубийств холостяков того же возраста. За период 1885—1890 гг. во Франции насчитывалось 380 случаев самоубийства на 1 млн во всей армии; в то же время неженатые в возрасте 20—25 лет гражданского населения давали 237 случаев. На 100 самоубийств гражданских холостяков приходится 160 самоубийств среди военных; следовательно, мы имеем коэффициент увеличения, равный 1,6, вне всякой зависимости от безбрачия. Если брать отдельно число самоубийств среди унтер-офицеров, то коэффициент этот станет еще выше. За период 1867—1874 гг. 1 млн унтер-офицеров давал среднее число в 993 случая. По данным переписи 1866 г., средний возраст их был немногим выше 31 года. Правда, мы не знаем, какой высоты достигал в это же время процент самоубийств среди холостых 30-летнего возраста в гражданском населении. Приводимые нами сведения относятся к значительно более позднему времени (1889—1891 гг.), и к тому же они являются единственными, которые мы имеем в интересующей нас сейчас области; но если взять за исходный пункт даваемые ими цифры, ошибка, которую мы совершим, не будет иметь другого результата, как понижение коэффициента увеличения у унтер-офицеров ниже того уровня, на котором он стоит на самом деле. Действительно, так как число самоубийств второго периода по сравнению с первым удвоилось, то процент среди холостых рассматриваемого нами возраста соответственно этому, конечно, тоже увеличился. Поэтому, сравнивая число самоубийств унтер-офицеров за период 1867—1874гг. с числом самоубийств среди холостых за период 1889—1891 гг., мы можем только затушевать, а отнюдь не преувеличить то дурное влияние, которое военная профессия оказывает на наклонность к самоубийству. Если, несмотря на эту погрешность, мы все же находим коэффициент увеличения, то мы можем быть уверены не только в том, что это увеличение действительно существует, но и в том, что оно значительно выше, чем это показывают наши статистические данные. В 1889—1891 гг. 1 млн холостых 31 года давали от 394 до 627 самоубийств, в среднем — 510. Это число относится к 993, как 100 к 194. Значит, мы имеем коэффициент увеличения, равный 1,94, и его можно повысить почти до 4, не боясь переступить действительно существующего уровня. Наконец, корпус офицеров за период 1862—1878 гг. давал в среднем 430 самоубийств на 1 млн. Средний их возраст, который не должен особенно сильно меняться, равнялся в 1866 г. 37 годам и 9 месяцам. Ввиду того что многие из офицеров женаты, сравнивать их надо не с холостяками этого же возраста, но с общей массой мужского населения, женатого и холостого вместе. В 1863—1868 гг. 1 млн мужчин всевозможных семейных положений 37-летнего возраста давал немногим более 200 случаев. Это число относится к 430, как 100 к 215, т. е. мы имеем коэффициентом увеличения цифру 2,15, совершенно не зависящую ни от брака, ни от условий семейной жизни. Этот коэффициент в зависимости от разных ступеней военной иерархии колеблется между 1,6 и 4 и может быть объяснен только причинами, присущими исключительно военной службе. Правда, это повышение числа самоубийств среди военных установлено нами только относительно Франции; для других стран мы не имеем данных, необходимых для того, чтобы было возможно изолировать влияние безбрачия. Но так как французская армия меньше всех других, за исключением датской, страдает от самоубийств, то можно быть уверенным, что наш вывод имеет общий характер и должен быть даже еще усилен в применении к остальным европейским странам. Чем можно объяснить подобное явление? В качестве причины называли алкоголизм, как говорят, сильнее развитый среди армии, чем среди гражданского населения. Но раньше всего, как уже было нами установлено выше, алкоголизм не имеет вообще определенного влияния на процент самоубийств; следовательно, в частности он не должен оказывать влияния и на процент самоубийств среди военных. Затем, тех нескольких лет военной службы (3 года во Франции и 2 1/2 в Пруссии), которые выпадают на долю мужского населения, недостаточно для того, чтобы выработать из новобранцев закоренелых алкоголиков, и потому громадный контингент самоубийств в армии не может объясняться этой причиной. Наконец, по заключению даже наблюдателей, приписывающих самое большое значение алкоголизму, оказывается, что только 1\10 всех случаев самоубийства в армии могла бы быть отнесена на счет его влияния. Следовательно, даже в том случае, если бы число самоубийств на почве алкоголизма среди солдат было в 2 или в 3 раза больше, чем среди гражданского населения того же возраста — что еще не доказано, то все-таки оставался бы значительный перевес на стороне самоубийств в армии, для которого пришлось бы искать другого объяснения. Мотив, который наиболее часто приводится в таких случаях,— это отвращение к военной службе. Такое объяснение вполне согласуется с тем мнением, что самоубийство вообще вызывается тяжелыми условиями существования; строгость дисциплины, отсутствие свободы, полное лишение всяких удобств — все это заставляет человека смотреть на жизнь в казарме как на нечто исключительно невыносимое. Аргументирующие таким образом забывают, что есть много других, еще более тяжелых профессий, которые тем не менее не увеличивают наклонности к самоубийству. Солдат по крайней мере всегда обеспечен в смысле жилища и питания. Но каково бы ни было значение вышеприведенных соображений, следующие факты говорят нам о том, что этого упрощенного объяснения недостаточно. 1) Логика заставляет допустить, что отвращение к военной службе должно сильнее чувствоваться в течение первых годов службы, а затем ослабевать по мере того, как солдат начинает привыкать к жизни в казарме. По истечении известного времени происходит некоторая акклиматизация либо в силу привычки, либо потому, что наиболее непокорный элемент или дезертирует, или кончает с собой. И эта акклиматизация тем глубже пускает свои корни, чем дальше продолжается служба под знаменами. Если бы перемена привычек и невозможность приспособиться к новому образу жизни определяли специальную наклонность солдата к самоубийству, то коэффициент увеличения должен был бы уменьшаться по мере того, как подвигается вперед военная служба. В действительности же этого нет. Во Франции меньше чем за 10 лет службы процент самоубийств почти утраивается, тогда как для холостых гражданского населения он за это же время повышается всего с 237 до 394. В английской армии в Индии за 20 лет службы процент самоубийств поднимается в 8 раз; нигде и никогда мы не увидим, чтобы процент этот прогрессировал настолько быстро среди гражданского населения. В этом мы имеем новое доказательство того, что повышенная наклонность к самоубийству, свойственная военным, не становится меньше по истечении первых лет службы. То же самое, по-видимому, происходит в Италии. Правда, в нашем распоряжении нет относительных цифр для наличного состава по отдельным годам. Но валовые цифры почти одинаковы для всех трех лет военной службы: 15,1 —для первого, 14,8—для второго, 14,3—для третьего года. Не подлежит сомнению, что наличный состав армии уменьшается с каждым годом службы вследствие смертности, преобразований полков, ухода в отставку и т. д. Абсолютные цифры могли удержаться на одном уровне только при том условии, чтобы относительные цифры значительно повысились. Однако нет ничего невероятного в том, что в некоторых странах известное число самоубийств в начале службы нужно приписать именно перемене образа жизни. Действительно, в Пруссии самоубийства исключительно часто встречаются в течение первых 6 месяцев службы. Точно так же в Австрии на 1000 случаев приходится 156, совершенных в течение первых 3 месяцев службы, что составляет, без сомнения, очень значительную сумму. Но эти факты нисколько не противоречат предыдущему. Весьма возможно, что помимо временного увеличения, происходящего в период пертурбации, вызванной внезапным изменением жизненной обстановки, существует еще и другое, определяемое совсем иными причинами и прогрессирующее согласно тому закону, который мы наблюдали во Франции и в Англии. В конце концов в самой Франции уровень второго и третьего года несколько ниже первого, что не препятствует, однако, дальнейшему повышению числа самоубийств. 2) Военная жизнь является значительно менее трудной, менее суровой для офицеров и унтер-офицеров, чем для солдат. Поэтому коэффициент увеличения в двух первых категориях должен быть ниже, чем в третьей. В действительности же происходит совер- -шенно обратное; мы уже установили это для Франции; то же самое повторяется и в других странах. В Италии^ офицерство за период 1871 —1878 гг. давало среднюю годовую в 565 случаев самоубийств на 1 млн, тогда как нижние чины давали только 230 случаев (по Морселли). Для унтер-офицеров процент самоубийств еще больше — свыше 1000 случаев на 1 млн. В Пруссии нижние чины дают 560 самоубийств на 1 млн, в то время как унтер-офицеры —1140. В Австрии одно самоубийство офицера приходится на 9 самоубийств среди солдат, тогда как, без всякого сомнения, в армии на каждого офицера имеется более чем 9 нижних чинов. Точно так же, хотя унтер-офицеров меньше чем по одному на двух солдат, одно самоубийство среди первых приходится на 2,5 среди вторых. 3) Отвращение к военной службе должно ощущаться в меньшей степени у тех, кто выбирает ее по призванию. Вольноопределяющиеся и сверхсрочные должны были бы проявлять меньшую наклонность к самоубийству; между тем в действительности именно в этой-то среде и наблюдается исключительно сильная к нему наклонность. Итак, всего более испытывают влечение к самоубийству те чины армии, у которых наибольшее призвание к военной карьере, которые наиболее свободны от связанных с нею неудобств и лишений. Отсюда вытекает, что специфический для этой профессии коэффициент увеличения самоубийств имеет своей причиной не отвращение к службе, а, наоборот, совокупность навыков, приобретенных привычек или природных предрасположений, составляющих так называемый военный дух. Первым качеством солдата является особого рода безличие, какого в гражданской жизни в такой степени нигде не встречается. Нужно, чтобы солдат низко ценил свою личность, если он обязан быть готовым принести ее в жертву по первому требованию начальства. Даже вне этих исключительных обстоятельств, в мирное время и в обыденной практике военного ремесла, дисциплина требует, чтобы солдат повиновался не рассуждая и иногда даже не понимая. Но для этого необходимо духовное самоотрицание, что, конечно, несовместимо с индивидуализмом. Надо очень слабое сознание своей индивидуальности для того, чтобы так спокойно и покорно следовать внешним импульсам. Одним словом, правила поведения солдата лежат вне его личности; а это и есть характеристическая черта альтруизма. Из всех элементов, составляющих наше современное общество, армия больше всего напоминает собой структуру общества низшего порядка. Подобно им, армия состоит из компактной массивной группы, поглощающей индивида и лишающей его всякой свободы движения. Так как подобное моральное состояние является естественной почвой для альтруистического самоубийства, то есть полное основание предполагать, что самоубийство среди военных носит такой же характер и имеет такое же происхождение. Таким путем можно объяснить себе, почему коэффициент увеличения самоубийств возрастает вместе с продолжительностью военной службы; это — оттого, что способность к самоотречению, обезличение развиваются как результат продолжительной дрессировки. Точно так же, поскольку военный дух развит сильнее среди сверхсрочников и среди офицеров, чем среди простых рядовых, постольку вполне естественно, что первые два класса обладают более сильно выраженной наклонностью к самоубийству, чем третий. Эта гипотеза дает нам даже возможность понять странное на первый взгляд превосходство в этом отношении унтер-офицеров над офицерами. Если они чаще лишают себя жизни, то это происходит потому, что не существует другой должности, которая требовала бы от субъекта в такой степени привычки к пассивному повиновению. Как бы ни был дисциплинирован офицер, но в известной мере он должен быть способным к проявлению инициативы; поле его деятельности более широко, и в силу этого индивидуальность его больше развита. Условия, благоприятные для альтруистического самоубийства, менее реализованы в офицерской корпорации, чем среди унтер-офицеров; первые живее чувствуют ценность жизни, и им поэтому труднее отказаться от нее. Это объяснение дает нам не только возможность понять многие уже рассмотренные факты, но, кроме того, подтверждается еще следующими данными. 1) Коэффициент увеличения самоубийств среди военных тем выше, чем меньше общая масса гражданского населения проявляет склонности к самоубийству, и наоборот. Дания по части самоубийств классическая страна, и солдаты в ней убивают себя не чаще, чем остальная масса населения. По числу самоубийств за нею следом идут Саксония, Пруссия, Франция; в них армия не особенно сильно страдает от самоубийств; коэффициент увеличения колеблется между 1,25 и 1,77. Напротив, этот коэффициент очень значителен для Австрии, Италии, Соединенных Штатов и Англии; все это те страны, где случаи самоубийства среди гражданского населения очень немногочисленны. Розен-фельд в уже цитированной нами раньше статье классифицировал главные европейские страны с точки зрения числа самоубийств среди военных и, не задаваясь целью вывести из этой классификации какое-нибудь определенное заключение, пришел к тем же результатам. За исключением того, что Австрия должна была бы стоять выше Италии, обратная пропорциональность здесь вполне выдержана. Австро-Венгрия дает нам еще более поразительную картину. Наиболее высокий коэффициент наблюдается там в тех частях войск, которые расположены в областях с наименьшим числом самоубийств среди гражданского населения, и обратно. Существует только одно исключение в лице территории Инсбрука, где уровень самоубийств среди гражданского населения стоит низко, а коэффициент увеличения не поднимается выше среднего. В Италии из всех военных округов меньше всего самоубийств насчитывается в Болонье (180 случаев на 1 млн), но прочее население чаще всего прибегает к самоубийству именно здесь (89,5). Апулия и Абруцца, наоборот, насчитывают больше всего самоубийств среди военных (370 и 400 на 1 млн и только 15 или 16 среди гражданских элементов). Для Франции можно сделать вполне аналогичное замечание. Парижский военный округ имеет 260 самоубийств на 1 млн жителей и значительно уступает Бретани, где мы имеем 440. Даже в Париже коэффициент увеличения должен быть незначительным, ибо в департаменте Сены на 1 млн холостых в возрасте 20—25 лет приходится 214 самоубийств. Все эти факты доказывают нам, что причины частых самоубийств в армии не только различны, но и диаметрально противоположны тем, которые вызывают самоубийство среди гражданского населения. В современных сложных европейских обществах самоубийства граждан обязаны своим существованием крайне развитому индивидуализму, неизбежно сопровождающему нашу цивилизацию. Самоубийство в армии должно зависеть от противоположного психического предрасположения, от слабого развития индивидуальности, т. е. от того, что мы назвали альтруизмом. И действительно, те народы, у которых особенно часто случаются самоубийства в армии, являются в то же время наименее цивилизованными, и нравы их ближе всего подходят к обществам низшего порядка. Традиционализм, этот главный противник всякого проявления индивидуализма, гораздо больше развит в Италии, Австрии и даже в Англии, чем в Саксонии, Пруссии и Франции. Он более живуч в Заре, Кракове, чем в Граце и Вене, в Апулии, чем в Риме и Болонье, в Бретани, чем в департаменте Сены. Так как традиционализм предохраняет от эгоистического самоубийства, то легко понять, что там, где он еще в силе, гражданское население мало склонно к самоубийству. Но он сохраняет свое профилактическое влияние только до тех пор, пока действует с умеренной силой. Если традиционализм переходит известный предел, то он сам становится источником самоубийств. Но, как мы уже знаем, армия неизбежно стремится его преувеличить и способна преступить меру тем решительнее, чем больше ее собственное действие поддерживается и усиливается влиянием окружающей среды. Воспитание, которое она дает, приводит к результатам тем более ярким, чем лучше оно согласовано с идеями и чувствами самого гражданского населения, потому что тогда оно не встречает никакого сопротивления. Напротив, там, где военный дух беспрестанно и энергично осуждается общественной моралью, он не может быть так же силен, как там, где вся окружающая среда влияет на молодого солдата в том же самом направлении. Теперь понятно, что в таких странах, где начало альтруизма развито достаточно для того, чтобы в известной мере защитить общую массу населения, армия развивает его до такой степени, что оно становится причиной значительного возрастания самоубийств. 2) Во всех армиях специальные, избранные войска обладают в то же время и наибольшим коэффициентом возрастания самоубийств. Последняя цифра, взятая по отношению к холостякам 1889—1891 гг., значительно приуменьшена, и/все же она много выше, чем в ординарных войсках. Точно так же в алжирской армии, которая считается среди войсковых частей образцовой, за период 1872 -1878 гг. число самоубийств было вдвое больше по сравнению с войсками, расквартированными в самой Франции (570 самоубийств на 1 млн вместо 280). Наименее подверженными самоубийству оказываются понтоньеры, саперы, санитарные служители, рабочие в администрации, т. е. все те, на ком менее всего отражается военный дух. Точно так же в Италии, в то время как армия вообще за период 1878—1881 гг. давала только 430 случаев на 1 млн, у стрелков было 580 случаев, у карабинеров — 800 и в военных школах и учебных батальонах—1010. Специальные части войск отличаются особенно интенсивным развитием духа военного самоотвержения и самоотречения. Значит, самоубийство в армии варьирует в прямой зависимости от этого морального состояния. 3) Последним доказательством этого закона является то, что самоубийство среди военных всюду уменьшается. В 1862 г. во Франции приходилось 630 случаев на 1 млн, в 1890 г. их было уже только 280. Некоторые полагают, что подобное уменьшение объясняется новым законом, сократившим срок службы. Но это уменьшение началось значительно раньше введения нового закона, а именно в 1862 г., и продолжалось непрерывно, если не считать довольно значительного повышения в 1882—1888 гг. С этим явлением мы встречаемся всюду. Число самоубийств в прусской армии вместо 716 случаев на 1 млн в 1877 г. спустилось до 550 в 1890г.; в Бельгии вместо 391 в 1885 г. их насчитывалось 185 в 1891 г.; в Италии вместо 431 в 1876 г.— 389 в 1892 г. В Австрии и Англии уменьшение числа самоубийств мало заметно, но, во всяком случае, нет и увеличения (1209 в 1892 г. в первой из этих стран и 210 — во второй в 1890 г. вместо 1277 и 217 в 1876г.). Если предполагаемое нами объяснение правильно, то дело именно так и должно происходить. Можно считать установленным, что во всех странах одновременно наблюдается падение старого военного духа. Хорошо это или худо, но только прежние привычки , пассивного послушания, абсолютного подчинения — одним словом, полного безличия мало-помалу при- • шли в противоречие с требованиями общественной совести и потеряли под собой почву. В соответствии с новыми веяниями дисциплина стала менее требовательной и стеснительной для индивида. Замечательно, что за этот же период времени в этих же самых странах число самоубийств среди гражданского населения безостановочно увеличивалось. Новое доказательство того, что причины, от которых оно зависит, по природе своей противоположны причине, обусловливающей специфическую наклонность к самоубийству среди солдат. Все убеждает нас в том, что самоубийство в армии представляет собою только известную форму альтруистического самоубийства. Конечно, мы не желаем сказать этим, что все частные случаи самоубийства в полках носят этот определенный характер или имеют только такое происхождение. Солдат, надевающий военную форму, не делается совершенно новым человеком; следы его предыдущей жизни, влияние полученного им воспитания — все это не может исчезнуть как бы по мановению волшебной палочки; и кроме того, он не настолько отделен от остального общества, чтобы совершенно не участвовать в общественной жизни. Самоубийство солдата по своим мотивам и по своей природе может иногда не иметь ничего военного. Но если устранить эти отдельные случаи, не имеющие между собою никакой связи, то остается сплоченная однородная группа, обнимающая собой большинство самоубийств в армии; и здесь определяющую роль играет то состояние альтруизма, вне которого не может быть военного духа. В лице этой группы мы имеем как бы пережиток самоубийств, свойственных обществам низшего порядка; ведь и сама военная мораль некоторыми своими сторонами составляет как бы пережиток морали первобытного человечества. Под влиянием этого предрасположения солдат лишает себя жизни при первом столкновении с жизнью, по самому ничтожному поводу: вследствие отказа в разрешении отпуска, вследствие выговора, незаслуженного наказания или неудачи по службе; убивает себя по причине ничтожного оскорбления, мимолетной вспышки ревности или даже просто потому, что на его глазах кто-нибудь покончил с собой. Здесь мы находим объяснение тех явлений заражения, которые так часто наблюдаются в армии. Выше мы приводили целый ряд относящихся сюда примеров. Подобные факты были бы необъяснимы, если бы самоубийство в корне своем зависело от индивидуальных причин. Нельзя же допустить, чтобы простой случай собрал именно в одном полку, на одной территории такое большое число лиц, по своему органическому сложению предрасположенных к самоубийству. С другой стороны, еще менее допустимо предположение, чтобы была возможна такая эпидемия подражания со стороны индивидов, нисколько не предрасположенных к самоубийству; но все легко объясняется, если согласиться с тем, что военная карьера развивает в человеке такой строй души, который непреоборимо тянет его расстаться с жизнью. Вполне естественно, что этот душевный строй встречается в той или другой степени у большинства людей, отбывающих военную службу, а так как именно он представляет почву, наиболее благоприятную для самоубийств, то нужен очень небольшой толчок для того, чтобы претворить в действие готовность убить себя, скрытую в человеке рассматриваемого морального склада. Для этого достаточно простого примера, и поэтому-то поступок одного лица с силою взрыва распространяется среди людей, заранее подготовленных следовать ему. III Теперь читателю будет более понятно наше желание дать объективное определение факту самоубийства и неизменно придерживаться его в ходе изложения. Хотя альтруистическое самоубийство и содержит в себе все характерные черты самоубийства вообще, но в своих наиболее ярких и поразительных проявлениях приближается к той категории человеческих поступков, к которым мы привыкли относиться с полным уважением и даже восторгом; поэтому мы очень часто отказываемся даже признать в нем факт самоубийства. В глазах Эскироля и Фальрэ смерть Катона и жирондистов не была самоубийством. Но если те самоубийства, которые своею видимой и непосредственной причиной имеют дух отречения и самоотвержения, не заслуживают такой квалификации, то последняя не может быть применена и к тем самоубийствам, которые происходят от того же морального расположения, хотя и менее очевидного; ибо вторые отличаются от первых только некоторыми оттенками. Если житель Канарских островов, бросающийся в пропасть в честь своего бога, не самоубийца, то нельзя дать этого названия и последователю секты Джина, если он убивает себя для того, чтобы войти в Ничто; точно так же дикарь, отказывающийся под влиянием аналогичного умственного состояния от жизни после какого-нибудь незначительного оскорбления или даже просто для того, чтобы доказать свое презрение к жизни, в свою очередь не может быть назван самоубийцей, равно как и разорившийся человек, не желающий пережить своего позора, и, наконец, те многочисленные солдаты, которые ежегодно увеличивают сумму добровольных смертей. Все эти явления имеют своим общим корнем начало альтруизма, которое в равной степени является и причиной того, что можно было бы назвать героическим самоубийством. Быть может, все эти факты надо отнести к категории самоубийств и исключить из нее только те случаи, в которых имеется налицо совершенно чистый мотив самоубийства? Но раньше всего, что может нам послужить критерием для такого разделения? С какого момента мотив перестает быть достаточно похвальным, чтобы руководимый им поступок мог быть квалифицирован как самоубийство? Разделяя коренным образом эти две категории фактов, мы тем самым лишаем себя возможности разобраться в их природе, потому что характерные для этого типа черты всего резче выступают в обязательном альтруистическом самоубийстве; все остальные разновидности составляют только производные формы. Итак, нам приходится или признать недействительной обширную группу весьма поучительных фактов, или же, если не отбрасывать их целиком, то, помимо того что мы можем сделать между ними только самый правильный выбор, мы поставим себя в полную невозможность распознать общий ствол, к которому относятся те факты, которые мы сохраним. Таковы те опасности, которым подвергается человек, если он определяет самоубийство в зависимости от внушаемых ему субъективных чувств. Кроме того, те доводы и те чувства, которыми оправдывается подобное исключение, и сами-то по себе не имеют никакого основания. Обыкновенно опираются на тот факт, что мотивы, вызывающие некоторые самоубийства альтруистического характера, повторяются в слегка только измененном виде, в основе тех актов, на которые весь мир смотрит как на глубоко нравственные. Но разве дело обстоит иначе относительно эгоистического самоубийства? Разве чувство индивидуальной автономии не имеет нравственного достоинства так же, как и чувство обратного порядка? Если альтруистическое чувство есть предпосылка известного мужества, если оно закаляет сердца и даже при дальнейшем развитии очерствляет их, то чувство индивидуалистическое размягчает сердца и открывает к ним доступ милосердия. В той среде, где властвует альтруистическое самоубийство, человек всегда готов пожертвовать своею жизнью, но зато он так же мало дорожит и жизнью других людей. Наоборот, там, где человек настолько высоко ставит свою индивидуальность, что вне ее не видит никакой цели в жизни, он с таким же уважением относится и к чужой жизни. Культ личности заставляет его страдать от всего того, что может ее умалить даже у себе подобных. Более широкая способность симпатически переживать человеческое страдание заступает на место фанатического самоотвержения первобытных времен. Итак, и тот, и другой тип самоубийства являются только преувеличенной или уклонившейся от правильного развития формой какой-либо добродетели. Но в таком случае пути их воздействия на моральное сознание не настолько разнятся между собою, чтобы дать нам право создавать так много зависящих от этого отдельных видов. ГЛАВА V. АНОМИЧНОЕ САМОУБИЙСТВООбщество является не только тем объектом, на который с различной интенсивностью направляются чувства и деятельность индивидов; оно представляет собой также управляющую ими силу. Между способом проявления этой регулирующей силы и социальным процентом самоубийств существует несомненное соотношение. I Известно, что экономические кризисы обладают способностью усиливать наклонность к самоубийству. В 1873 г. в Вене разразился такой кризис, достигший своего апогея в 1874 г., и в то же самое время можно было констатировать увеличение числа самоубийств. В 1872 г. насчитывался 141 случай, в 1873 г. их было уже 153, в 1874 г.—216, т. е. число их увеличилось на 51% по отношению к 1872 г. и на 41% — по отношению к 1873 г. Что это увеличение единственной своей причиной имело экономическую катастрофу, доказывается тем, что особенно высоко оно было в самый острый момент кризиса, а именно в течение первых 4 месяцев 1874 г. С 1 января по 30 апреля 1871 г. зарегистрировано 48 самоубийств, в 1872 г.—44 и в 1873 г.—43; в 1874 г. их насчитывалось за тот же период 73. Мы имеем здесь, следовательно, увеличение на 70%. Тот же самый кризис охватил одновременно Франкфурт-на-Майне. В течение годов, предшествовавших 1874 г., среднее годовое число самоубийств равнялось там 22, в 1874 г. их было уже 32, т. е. на 45% больше. Еще очень ярко у всех сохранилось в памяти воспоминание о знаменитом крахе, постигшем парижскую биржу в 1882 г. Последствия его дали себя чувствовать не только в одном Париже, но и во всей Франции. С 1874 до 1876 г. увеличение среднего годового числа самоубийств не превышало 2%; в 1882 г. оно достигает 7%. Кроме того, увеличение это равномерно распределялось на протяжении всего года, но особенно ярко выразилось в течение трех первых месяцев, т. е. как раз в момент этого краха. На эти три месяца приходится 0,59 общего увеличения. Ясно, что это возрастание зависит от исключительных обстоятельств, так как его не только не наблюдалось в 1881 г., но оно исчезло в 1883 г., хотя этот последний имеет в общем немного большее число самоубийств, чем предыдущий. Соотношение между экономическим состоянием страны и процентом самоубийств наблюдается не только в нескольких исключительных случаях; оно является общим законом. Цифра банкротств может служить барометром, отражающим с достаточной чувствительностью изменения, происходящие в экономической жизни. Если наблюдается, что при переходе от одного года к следующему цифра эта внезапно увеличивается, можно быть уверенным, что произошла какая-нибудь значительная пертурбация в финансовом мире. В период 1845—1869 гг. 3 раза наблюдалось внезапное повышение банкротств — этот характерный симптом кризиса; в продолжение этого периода годовое увеличение числа банкротств равнялось 3,2%; в 1847 г. оно достигает 26%, в 1854 г.—37, в 1861 г.—20%. Именно в эти моменты можно было констатировать также исключительно быстрый рост числа самоубийств; в то время как на протяжении этих 24 лет годовая сумма самоубийств увеличивается только на 2%, в 1847 г. увеличение достигало 17%, в 1854 г.—8, в 1864 г.—9%. Но чему именно должны мы приписать такое влияние кризисов? Не потому ли происходит это явление, что с потрясением общественного благосостояния растет нищета? Не потому ли, что условия жизни становятся тяжелее, расставаться с ней более легко? Подобное объяснение соблазнительно по своей несложности, тем более что совпадает с общепринятым мнением о самоубийстве; тем не менее факты противоречат ему. В самом деле, если число добровольных смертей увеличивается в силу того, что условия жизни становятся тяжелее, оно должно было бы заметно уменьшаться в тот период, когда благосостояние страны улучшается. Но, в то время как чрезмерное возрастание стоимости предметов первой необходимости действительно вызывает повышение числа самоубийств, это последнее, как показывает опыт, не опускается ниже среднего уровня в тот период, когда наблюдается обратное движение цен. В Пруссии в 1850 г. цена на хлеб была так низка, как еще ни разу на протяжении всего периода с 1848 по 1881 г. 50 килограммов стоили 6 марок 91 иф., а тем не менее число самоубийств вместо 1527 в 1849 г. повысилось до 1736, т. е. увеличилось на 13%, и продолжало увеличиваться в течение 1851, 1852 и 1853 гг., хотя низкие цены держались устойчиво. В 1858—1859 гг. имело место новое падение цен, но число самоубийств продолжало увеличиваться. В 1857 г. оно было 2038, в 1858 г.—2126, в 1859г.— 2146. В продолжение 1863 —1866 гг. цены, достигшие 11 м. 04 пф. в 1861 г., постепенно понижаются до 7,95 м. в 1864 г. и остаются весьма умеренными до конца этого периода. За то же самое время число самоубийств увеличилось на 17% (2112 — в 1862г. и 2485 —в 1886 г.). В Баварии наблюдаются аналогичные факты: согласно кривой, установленной Мауег'ом в его книге «Die Gesetzmasigkeit in Gesellschaftsleben» для периода 1835—1861 гг., цена ржи была всего ниже в течение 1857—1858 и 1858—1859 гг.; в противовес этому в 1857 г. насчитывалось только 286 случаев самоубийств, в 1858 г. число это поднялось до 329, а в 1859 г.— до 387. То же явление наблюдалось в течение 1848—1850 гг.; цены на хлеб были в это время очень низкие по всей Европе. И однако, несмотря на легкое и временное понижение, обязанное событиям политического характера, о которых мы уже говорили выше, число самоубийств осталось на том же уровне. В 1847 г. насчитывалось 217 случаев, в 1848 г. их было 215, а после того, как в 1849 г. число их на один момент сократилось до 189, начиная с 1850 г. кривая опять пошла вверх и достигла 250. Насколько трудно приписать возрастание числа самоубийств влиянию растущей нищеты, видно из того, что даже счастливые кризисы, во время которых благосостояние страны быстро повышается, оказывают на самоубийство такое же действие, как экономические бедствия. Завоевание Рима Виктором Эммануилом в 1870 г. окончательно завершило объединение Италии и было для всей страны тем моментом, когда началось ее обновление, ведущее ее к положению одной из великих держав Европы. Торговля и промышленность получили энергичный толчок, и все преобразилось с необыкновенной быстротой. В то время как в 1876 г. потребности итальянской промышленности удовлетворялись 4455 паровыми котлами, дававшими в общем 54000 л. с., в 1887 г. число машин поднялось до 9983 с общей мощностью 167000 л. с., т. е. за это время утроилось. Само собою разумеется, что количество вырабатываемых продуктов увеличилось в такой же пропорции. Обмен прогрессировал в том же размере: не только развился торговый флот, улучшились пути сообщения и транспорт, но удвоилось .также количество перевезенных товаров и людей. Чрезвычайное оживление хозяйственной деятельности повлекло за собой увеличение заработной платы (за период 1873—1889 гг. увеличение ее равняется 35%), материальное положение рабочих улучшилось, тем более, что как раз в это время упала цена на хлеб. Наконец, по расчетам Бо-дио, состояние частных лиц поднялось с 45'/2 млрд в среднем за период 1875—1880 гг. до 51 млрд в 1880— 1885 гг. и до 54'/2 млрд —в 1885—1890 гг. И вот параллельно этому коллективному возрождению констатируется исключительное возрастание числа самоубийств. За период 1866—1870 гг. число это держалось почти на одном и том же уровне; в 1871 — 1877 гг. оно увеличилось на 36%. И с этого момента повышение все продолжалось. Общая сумма самоубийств в 1877 г. равнялась 1139, в 1889 г. она поднялась до 1463, иначе говоря, мы имеем здесь новое увеличение на 28%. В Пруссии то же явление повторялось 2 раза. В 1866 г. это королевство получило первые приобретения: оно присоединило к себе несколько важных провинций и в то же время сделалось центром северной конфедерации. Эта полоса славы и мощи знаменуется внезапной вспышкой самоубийств. В период 1856— 1860 гг. на год приходилось в среднем 123 случая на 1 млн населения и только 122 — за 1861 —1865 гг. За пятилетие (1866—1870 гг.), несмотря на уменьшение числа самоубийств в 1870 г., среднее их число повысилось до 133. В 1867 г., непосредственно после победы, число самоубийств достигает самой высшей точки за все время начиная с 1816 г. (1 самоубийство на 5432 жителя, тогда как в 1864 г. приходился 1 случай на 8739). После кампании 1870 г. происходит новая счастливая перемена. К этому времени Германия объединилась и восторжествовала гегемония Пруссии. Громадная контрибуция после удачной войны широкой рекой влилась в народное благосостояние; промышленность и торговля получили благодаря этому могучий толчок. Между тем никогда еще развитие самоубийств не шло таким быстрым темпом, как в течение этого времени. За период 1875—1886 гг. число самоубийств увеличилось на 90%—с 3278 возросло до 6212. Всемирные выставки, если они бывают удачны, считаются счастливым событием для той страны, где они организуются. Выставки оживляют торговый оборот, привлекают в страну денежные капиталы и как бы увеличивают национальное богатство, особенно в том городе, где они открываются. Но, несмотря на все это, в конечном счете они, вероятно, также оказывают положительное влияние на увеличение числа самоубийств. Особенно ясно это влияние сказалось во время выставки 1878 г. В этом году увеличение числа самоубийств превзошло по величине всякий другой период, считая с 1874 года и кончая 1886 г. Уровень самоубийств был на 8% выше, чем во время кризиса 1882г. У нас нет основания искать другого повода для объяснения этого явления, кроме выставки, потому что 0,86 этого увеличения приходится на те 6 месяцев, в течение которых она продолжалась. В 1889 г. аналогичное явление не
наблюдалось на всем протяжении Франции. Но вполне возможно, что Можно предполагать, что если бы не влияние буланжистов, то повышение числа самоубийств выразилось бы еще резче. Но еще более убедительным доказательством того, что экономическое расстройство не имеет приписываемого ему усиливающегося влияния на возрастание числа самоубийств, служит тот факт, что в действительности наблюдается как раз обратное влияние. В Ирландии жизнь крестьянина полна всевозможных лишений, а самоубийство там явление чрезвычайно редкое. Среди жалкого и дикого населения Калабрии, собственно говоря, совершенно не бывает самоубийств; в Испании число самоубийств в 10 раз меньше, чем во Франции. В известном смысле бедность предохраняет от самоубийства. В различных департаментах Франции тем выше число самоубийств, чем больше число людей, живущих на проценты со своих капиталов. Если промышленный и финансовый кризисы имеют усиливающее влияние на число самоубийств, то это происходит не потому, что они несут с собой бедность и разорение,— ведь кризисы расцвета дают те же результаты,— но просто потому, что они — кризисы, т. е. потрясения коллективного строя. Всякое нарушение равновесия даже при условии, что следствием его будет увеличение благосостояния и общий подъем жизненных сил, толкает к добровольной смерти. Каждый раз, когда социальное тело терпит крупные изменения, вызванные внезапным скачком роста или неожиданной катастрофой, люди начинают убивать себя с большей легкостью. Чем это объясняется? Каким образом то, что обычно считается улучшением жизни, может отнять ее? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо несколько предварительных замечаний. Всякое живое существо может жить, а тем более чувствовать себя счастливым только при том условии, если его потребности находят себе достаточное удовлетворение. В противном случае, т. е. если живое существо требует большего или просто иного, чем то, что находится в его распоряжении, жизнь для него неизбежно становится непрерывною цепью страданий. Стремление, не находящее себе удовлетворения, неизбежно атрофируется, а так как желание жить есть по существу своему производное от всех других желаний, то оно не может не ослабеть, если все прочие чувства притупляются. У животных, когда они находятся в нормальном состоянии, это равновесие устанавливается с автоматической самопроизвольностью, потому что оно зависит от чисто материальных условий. Организм требует лишь, чтобы количества вещества и энергии, непрерывно затрачиваемые на существование, были периодически возмещаемы эквивалентными количествами, т. е. чтобы возмещение равнялось затрате. Когда ущерб, причиненный жизнью ее собственным источникам, пополнен, животное довольно и больше ничего не требует: в нем недостаточно сильно развита способность размышления, чтобы оно могло ставить себе другие цели жизни, чем те, которые ставит ему его физическая природа. С другой стороны, так как работа, выпадающая на долю каждого органа, зависит от общего состояния жизненных сил и от необходимого равновесия организма, то трата в свою очередь регулируется возмещением, и таким образом баланс сводится сам собою. Границы одного в то же самое время являются и границами другого: обе они начертаны в самой организации живого существа, которое не может их переступить. Но совсем иначе обстоит дело с человеком, так как большинство его потребностей не в такой полной степени зависит от его тела. Строго говоря, можно считать определимым количество материальной пищи, необходимое для поддержания физической жизни человека, хотя это определение будет уже менее точно, чем в предыдущем случае, и поле более широко открыто для свободной игры желаний, ибо сверх необходимого минимума, которым природа всегда готова довольствоваться, когда она действует инстинктивно, более живой интеллект заставляет предусматривать лучшие условия, которые кажутся желательными целями и которые возбуждают к деятельности. Однако же можно допустить, что подобного рода аппетиты рано или поздно достигают известной границы, перейти которую они не в состоянии. Но каким же образом мы можем определить ту степень благополучия, комфорта и роскоши, к которой может вполне законно стремиться человеческое существо? Ни в органическом, ни в психическом строении человека нельзя найти ничего такого, что могло бы служить пределом для такого рода стремлений. Существование индивида вовсе не требует, чтобы эти стремления к лучшему стояли именно на данном, а не на другом уровне; доказательством этого служит то обстоятельство, что с самого начала истории они непрерывно развивались, что человеческие потребности все время получали более и более полное удовлетворение, и тем не менее в среднем степень физического здоровья не понизилась. В особенности трудно было бы определить, каким образом данные стремления должны варьировать в зависимости от различных условий, профессий, службы и т. д. Нет такого общества, где бы на разных ступенях социальной иерархии подобные стремления получали равное удовлетворение. И однако, в существенных чертах человеческая природа почти тождественна у всех членов общества. Значит, не от нее зависит та изменчивая граница, которой определяется величина потребностей на каждой данной социальной ступени. Следовательно, поскольку подобного рода потребности зависят только от индивида, они безграничны. Наша восприимчивость, если отвлечься от всякой регулирующей ее внешней силы, представит собой бездонную пропасть, которую ничто не может наполнить. Итак, если извне не приходит никакого сдерживающего начала, наша восприимчивость становится для самой себя источником вечных мучений, потому что безграничные желания ненасытны по своему существу, а ненасытность небезосновательно считается признаком болезненного состояния. При отсутствии внешних препонов желания не знают для себя никаких границ и потому далеко переходят за пределы данных им средств и, конечно, никогда не находят покоя. Неутомимая жажда превращается в сплошную пытку. Правда, говорят, что это уже свойство самой человеческой деятельности — развиваться вне всякой меры и ставить себе недостижимые цели. Но трудно понять, почему такое состояние неопределенности должно лучше согласоваться с условиями умственной жизни, нежели с требованиями физического существования. Какое бы наслаждение ни давало человеку сознание того, что он работает, двигается, борется, но он должен чувствовать, что усилия его не пропадают даром и что он подвигается вперед. Но разве человек может совершенствоваться в том случае, если он идет без всякой цели или. что почти то же самое, если эта цель по природе своей бесконечна? Раз цель остается одинаково далекой, как бы ни был велик пройденный путь, то стремиться к ней — все равно что бессмысленно топтаться на одном и том же месте. Чувство гордости, с которым человек оборачивается назад для того, чтобы взглянуть на уже пройденное пространство, может дать только очень иллюзорное удовлетворение, потому что путь от этого нисколько не уменьшился. Преследовать какую-нибудь заведомо недостижимую цель - это значит обрекать себя на вечное состояние недовольства. Конечно, часто случается, что человек надеется не только без всякого основания, но и вопреки всяким основаниям, и эта надежда дает ему радость. На некоторое время она может поддержать человека, но она не могла бы пережить неопределенное время повторных разочарований опыта. Что может дать лучшего будущее в сравнении с прошлым, если невозможно достигнуть такого состояния, на котором можно было бы остановиться, если немыслимо даже приблизиться к желанному идеалу? И поэтому, чем большего достигает человек, тем соответственно большего он будет желать: приобретенное или достигнутое будет только развивать и обострять его потребности, не утоляя их. Быть может, скажут, что деятельность и труд сами по себе приятны? Но для этого надо прежде всего ослепить себя, чтобы не видеть полной бесплодности своих усилий. Затем, чтобы почувствовать такое удовольствие, чтобы оно могло успокоить и замаскировать неизбежно сопровождающую его болезненную тревогу, бесконечное движение должно по крайней мере развиваться вполне свободно, не встречая на своем пути никаких препятствий. Но стоит ему встретиться с какой-нибудь преградой, и ничто тогда не умиротворит и не смягчит сопутствующего ему страдания. Но было бы истинным чудом, если бы человек на своем жизненном пути не встретил ни одного непреодолимого препятствия. При этих условиях связь с жизнью держится на очень тонких нитях, каждую минуту могущих разорваться. Изменить это положение вещей можно лишь при том условии, если человеческие страсти найдут себе определенный предел. Только в этом случае можно говорить о гармонии между стремлениями и потребностями человека, и только тогда последние могут быть удовлетворены. Но так как внутри индивида нет никакого сдерживающего начала, то оно может истекать только от какой-либо внешней силы. Духовные потребности нуждаются в каком-нибудь регулирующем начале, играющем по отношению к ним ту же роль, какую организм выполняет в сфере физических потребностей. Эта регулирующая сила, конечно, должна быть в свою очередь морального характера. Пробуждение сознания нарушило то состояние равновесия, в котором дремало животное, и потому только одно сознание может дать средство к восстановлению этого равновесия. Материальное принуждение в данном случае не может иметь никакого значения; сердца людей нельзя изменить посредством физико-химических сил. Поскольку стремления не задерживаются автоматически с помощью физиологических механизмов, постольку они могут остановиться только перед такой границей, которая будет ими признана справедливой. Люди никогда не согласились бы ограничить себя в своих желаниях, если бы они чувствовали себя вправе перейти назначенный для них предел. Однако ввиду соображений, уже указанных нами выше, приходится признать, что люди не могут продиктовать сами себе этот закон справедливости; он должен исходить от лица, авторитет которого они уважают и перед которым добровольно преклоняются. Одно только общество — либо непосредственно, как целое, либо через посредство одного из своих органов — способно играть эту умеряющую роль; только оно обладает той моральной силой, которая возвышается над индивидом и превосходство которой последний принужден признать. Никому другому, кроме общества, не принадлежит право намечать для человеческих желаний тот крайний предел, дальше которого они не должны идти. Одно только оно может определить, какая награда должна быть обещана в будущем каждому из служащих ему в интересах общего блага. И действительно, в любой момент истории в моральном сознании общества можно найти смутное понимание относительной ценности различных социальных функций и того вознаграждения, которого достойна каждая из них; а следовательно, общество сознает, какой степени жизненного комфорта заслуживает средний работник каждой профессии. Общественное мнение как бы иерархизует социальные функции, и каждой из них принадлежит тот или иной коэффициент жизненного благополучия в зависимости от места, занимаемого ею в социальной иерархии. Например, согласно идеям, установившимся в обществе, существует известный предел для образа жизни рабочего, выше которого не должны простираться его стремления улучшить свое существование, и, с другой стороны, устанавливается известный жизненный минимум, ниже которого, кроме каких-нибудь исключительных отрицательных случаев, не могут опускаться потребности рабочего. Уровень материального обеспечения, конечно, разнится для городского и сельского работника, для слуги и поденщика, для приказчика и чиновника. Если богатый человек ведет жизнь бедняка, то общественное мнение резко порицает его, но точно так же неодобрительно относится оно к нему, если жизнь его утопает в изысканной роскоши. Экономисты протестуют напрасно; в глазах общества всегда будет казаться несправедливым и возмутительным тот факт, что частное лицо может расточительно потреблять громадные богатства; и по-видимому, эта нетерпимость к роскоши ослабевает только в эпоху моральных переворотов. Мы имеем здесь настоящую регламентацию, которая всегда носит юридическую форму и с относительной точностью постоянно фиксирует тот максимум благосостояния, к достижению которого имеет право стремиться каждый класс. Необходимо отметить, впрочем, что вся эта социальная лестница отнюдь не есть что-либо неподвижное. По мере того как растет или падает коллективный доход, меняется и она вместе с переменой моральных идей в обществе. То, что в одну эпоху Считается роскошью, в другую оценивается иначе. Материальное благосостояние, признававшееся в течение долгого времени законным уделом одного только класса, поставленного в исключительно счастливые условия, начинает в конце концов казаться совершенно необходимым для всех людей без различия. Под этим давлением каждый в своей сфере может отдать себе приблизительный отчет в том, до какого предела могут простираться его жизненные требования. Если субъект дисциплинирован и признает над собою коллективный авторитет, т. е. обладает здоровой моральной конструкцией, то он чувствует сам, что требования его не должны подниматься выше определенного уровня. Индивидуальные стремления заключены в этом случае в определенные рамки и имеют определенную цель, хотя в подобном самоограничении нет ничего обязательного или абсолютного. Экономический идеал, установленный для каждой категории граждан, в известных пределах сохраняет подвижность и не препятствует свободе желаний; но он небезграничен. Благодаря этому относительному ограничению и обузданию своих желаний люди могут быть довольны своей участью, сохраняя при этом стремление к лучшему будущему; это чувство удовлетворенности дает начало спокойной, но деятельной радости, которая для индивида точно так же, как и для общества, служит показателем здоровья. Каждый, по крайней мере в общем, примиряется со своим положением и стремится только к тому, на что он может с полным правом надеяться как на нормальную награду за свою деятельность. Человек вовсе не осужден пребывать в неподвижности; перед ним открыты пути к улучшению своего существования, но даже неудачные попытки в этом направлении вовсе не должны повлечь за собою полного упадка духа. Индивид привязан к тому, что он имеет, и не может вложить всю свою душу в добывание того, чего у него еще нет; поэтому даже в том случае, если все то новое, к чему он стремится и на что надеется, обманет его, жизнь не утратит для него всякой ценности. Самое главное и существенное останется при нем. Благополучие его находится в слишком прочном равновесии, чтобы какие-нибудь преходящие неудачи могли его ниспровергнуть. Конечно, было бы совершенно бесполезно, если бы каждый индивид считал справедливой признанную общественным мнением иерархию функции, не признавая в то же самое время справедливым тот способ, каким рекрутируются исполнители этих функций. Рабочий не может находиться в гармонии со своим социальным положением, если он не убежден в том, что занимает именно то место, которое ему следует занимать. Если он считает себя способным исполнять другую функцию, то его работа не может удовлетворять его. Поэтому недостаточно того, чтобы общественное мнение только регулировало для каждого положения средний уровень потребностей; нужна еще другая, более точная регламентация, которая определила бы, каким образом различные социальные функции должны открываться частным лицам. И действительно, нет такого общества, где не существовала бы подобная регламентация; конечно, она изменяется в зависимости от времени и места. В прежнее время почти исключительным принципом социальной классификации было происхождение; в настоящее время удержалось неравенство по рождению лишь постольку, поскольку оно создается различиями в унаследованных имуществах. Но под этими различными формами вышеупомянутая регламентация имеет всюду дело с одним и тем же объектом. Равным образом повсюду существование ее возможно только при том условии, что она предписывается индивиду властью высшего авторитета, т. е. авторитета коллективного. Ведь никакая регламентация не может установиться без того, чтобы от тех или других— а чаще всего и от тех, и от других — членов общества не потребовалось известных уступок и жертв во имя общего блага. Некоторые авторы думали, правда, что это моральное давление сделается излишним, как только исчезнет передача по наследству экономического благосостояния. Если, говорили они, институт наследства будет уничтожен, то каждый человек будет вступать в жизнь с равными средствами, и если борьба между конкурентами будет начинаться при условии полного равенства, то нельзя будет назвать ее результаты несправедливыми. Все должны будут добровольно признать существующий порядок вещей за должный. Конечно, не может быть никакого сомнения в том, что, чем больше человеческое общество будет приближаться к этому идеальному равенству, тем меньше будет также и нужды в социальном принуждении. Но весь вопрос заключается здесь только в степени, потому что всегда останется налицо наследственность или так называемое природное дарование. Умственные способности, вкус, научный, художественный, литературный или промышленный талант, мужество и физическая ловкость даруются нам судьбой вместе с рождением точно так же, как передаваемый по наследству капитал, точно так же, как в прежние времена дворянин получал свой титул и должность. Как и раньше, нужна будет известная моральная дисциплина, для того чтобы люди, обделенные природой в силу случайности своего рождения, примирились со своим худшим положением. Нельзя идти в требованиях равенства настолько далеко, чтобы утверждать, что раздел должен производиться поровну между всеми, без всякого отличия для более полезных и достойных членов общества. При таком понимании справедливости нужна была бы совершенно особая дисциплина, чтобы выдающаяся индивидуальность могла примириться с тем, что она стоит на одной ступени с посредственными и даже ничтожными общественными элементами. Но само собой разумеется, что подобная дисциплина, так же как и в предыдущем случае, только тогда может быть полезной, если подчиненные ей люди признают ее справедливой. Если же она держится только по принуждению и привычке, то мир и гармония существуют в обществе лишь по видимости, смятение и недовольство уже носятся в общественном сознании, и близко то время, когда по внешности сдержанные индивидуальные стремления найдут себе выход. Так случилось с Римом и Грецией, когда поколебались те верования, на которых покоилось, с одной стороны, существование патрициата, а с другой — плебса; то же повторилось и в наших современных обществах, когда аристократические предрассудки начали терять свой престиж. Но это состояние потрясения по характеру своему, конечно, исключительно, и оно наступает только тогда, когда общество переживает какой-нибудь болезненный кризис. В нормальное время большинство обыкновенно признает существующий общественный порядок справедливым. Когда мы говорим, что общество нуждается в авторитете, противополагающем себя стремлениям частных лиц, то меньше всего мы хотим, чтобы нас поняли в том смысле, что насилие в наших глазах—единственный источник порядка. Поскольку такого рода регламентация имеет своей целью сдерживать индивидуальные страсти, постольку источником своим она должна иметь начало, возвышающееся над индивидами, и подчинение ей должно вытекать из уважения, а не из страха. Итак, ошибается тот, кто утверждает, что человеческая деятельность может быть освобождена от всякой узды. Подобной привилегией на этом свете не может пользоваться никто и ничто, потому что всякое существо, как часть вселенной, связано с ее остальною частью; природа каждого существа и то, как она проявляется, зависят не только от этого существа, но и от всех остальных существ, которые и являются, таким образом, для него сдерживающей и регулирующей силой. В этом отношении между каким-нибудь минералом и мыслящим существом вся разница заключается только в степени и форме. Для человека в данном случае характерно то обстоятельство, что сдерживающая его узда по природе своей не физического, но морального, т. е. социального, свойства. Закон является для него не в виде грубого давления материальной среды, но в образе высшего, и признаваемого им за высшее, коллективного сознания. Большая и лучшая часть жизненных интересов человека выходит за пределы телесных нужд и потому освобождается от ярма физической природы, но попадает под ярмо общества. В момент общественной дезорганизации — будет ли она происходить в силу болезненного кризиса или, наоборот, в период благоприятных, но слишком внезапных социальных преобразований — общество оказывается временно не способным проявлять нужное воздействие на человека, и в этом мы находим объяснение тех резких повышений кривой самоубийств, которые мы установили выше. И действительно, в момент экономических бедствий мы можем наблюдать, как разразившийся кризис влечет за собой известное смешение классов, в силу которого целый ряд людей оказывается отброшенным в разряд низших социальных категорий. Многие принуждены урезать свои требования, сократить свои привычки и вообще приучиться себя сдерживать. По отношению к этим людям вся работа, все плоды социального воздействия пропадают, таким образом, даром, и их моральное воспитание должно начаться сызнова. Само собой разумеется, что общество не в состоянии единым махом приучить этих людей к новой жизни, к добавочному самоограничению. В результате все они не могут примириться со своим ухудшившимся положением; и даже одна перспектива ухудшения становится для них невыносимой; страдания, заставляющие их насильственно прервать изменившуюся жизнь, наступают раньше, чем они успели изведать эту жизнь на опыте. Но то же самое происходит в том случае, если социальный кризис имеет своим следствием внезапное увеличение общего благосостояния и богатства. Здесь опять-таки меняются условия жизни, и та шкала, которою определялись потребности людей, оказывается устаревшей; она передвигается вместе с возрастанием общественного богатства, поскольку она определяет в общем и целом долю каждой категории производителей. Прежняя иерархия нарушена, а новая не может сразу установиться. Для того чтобы люди и вещи заняли в общественном сознании подобающее им место, нужен большой промежуток времени. Пока социальные силы, предоставленные самим себе, не придут в состояние равновесия, относительная ценность их не поддается учету и, следовательно, на некоторое время всякая регламентация оказывается несостоятельной. Никто не знает в точности, что возможно и что невозможно, что справедливо и что несправедливо; нельзя указать границы между законными и чрезмерными требованиями и надеждами, а потому все считают себя вправе претендовать на все. Как бы поверхностно ни было это общественное потрясение, все равно, те принципы, на основании которых члены общества распределяются между различными функциями, оказываются поколебленными. Поскольку изменяются взаимоотношения различных частей общества, постольку и выражающие эти отношения идеи не могут остаться непоколебленными. Тот социальный класс, который особенно много выиграл от кризиса, не расположен больше мириться со своим прежним уровнем жизни, а его новое, исключительно благоприятное положение неизбежно вызывает целый ряд завистливых желаний в окружающей его среде. Общественное мнение не в силах своим авторитетом сдержать индивидуальные аппетиты; эти последние не знают более такой границы, перед которой они вынуждены были бы остановиться. Кроме того, умы людей уже потому находятся в состоянии естественного возбуждения, что самый пульс жизни в такие моменты бьется интенсивнее, чем раньше. Вполне естественно, что вместе с увеличением благосостояния растут и человеческие желания; на жизненном пиру их ждет более богатая добыча, и под влиянием этого люди становятся требовательнее, нетерпеливее, не мирятся больше с теми рамками, которые им ставил ныне ослабевший авторитет традиции. Общее состояние дезорганизации, или аномии, усугубляется тем фактом, что страсти менее всего согласны подчиниться дисциплине именно в тот момент, когда это всего нужнее. При таком положении вещей действительность не может удовлетворить предъявляемых людьми требований. Необузданные претензии каждого неизбежно будут идти дальше всякого достижимого результата, ибо ничто не препятствует им разрастаться безгранично. Это общее возбуждение будет непрерывно поддерживать само себя, не находя себе ни в чем успокоения. А так как такая погоня за недостижимой целью не может дать другого удовлетворения, кроме ощущения самой погони, то стоит только этому стремлению встретить на своем пути какое-либо препятствие, чтобы человек почувствовал себя совершенно выбитым из колеи. Одновременно с этим самая борьба становится более ожесточенной и мучительной как потому, что она менее урегулирована, так и потому, что борцы особенно разгорячены. Все социальные классы выходят из привычных рамок, так что определенного классового деления более не существует. Общие усилия в борьбе за существование достигают высшей точки напряжения именно в тот момент, когда это менее всего продуктивно. Как же при таких условиях может не ослабеть желание жить? Наше объяснение подтверждается тем исключительным иммунитетом в смысле самоубийства, которым пользуются бедные страны. Бедность предохраняет от самоубийства, потому что сама по себе она служит уздой. Что бы ни делал человек, но его желания до известной степени должны сообразоваться с его средствами; наличное материальное положение всегда служит в некотором роде исходным пунктом для определения того, что желательно было бы иметь. Следовательно, чем меньшим обладает человек, тем меньше у него соблазна безгранично расширять круг своих потребностей. Бессилие приучает нас к умеренности, и, кроме того, в той среде, где все обладают только средним достатком, ни у кого не является достаточного повода завидовать. Напротив, богатство дает нам иллюзию, будто мы зависим только от самих себя. Уменьшая сопротивление, которое нам противопоставляют обстоятельства, богатство позволяет нам думать, что они могут быть бесконечно побеждаемы. Чем меньше человек ограничен в своих желаниях, тем тяжелее для него всякое ограничение. Поэтому не без основания множество религиозных учений восхваляло благодеяния и нравственную ценность бедности; последняя служит лучшей школой к тому, чтобы человек приучился к самообузданию. Принужденный неустанно дисциплинировать самого себя, индивид легче приспособляется к коллективной дисциплине; наоборот, богатство, возбуждая индивидуальные желания, всегда несет с собой дух возмущения, который есть уже источник безнравственности. Конечно, все вышесказанное нельзя истолковать в том смысле, что следует препятствовать человеку в его борьбе за улучшение материального положения; но если против той моральной опасности, которую влечет за собой рост благосостояния, известны противоядия, то все-таки не следует упускать ее из виду. III Если бы аномия проявлялась всегда, как в предыдущих случаях, в виде перемежающихся приступов и острых кризисов, то, конечно, время от времени она могла бы заставить колебаться социальный процент самоубийств, но не была бы его постоянным и регулярным фактором. Существует между тем определенная сфера социальной жизни, в которой аномия является хроническим явлением; мы говорим о коммерческом и промышленном мире. В течение целого века экономический прогресс стремился главным образом к тому, чтобы освободить промышленное развитие от всякой регламентации. Вплоть до настоящего времени целая система моральных сил имела своей задачей дисциплинировать промышленные отношения. Сначала влияние это оказывала религия, которая в равной степени обращалась и к рабочим, и к хозяевам, к беднякам и к богатым. Она утешала первых и учила их довольствоваться своей судьбой, внушая им, что социальным порядком руководит Провидение, что доля каждого класса определена самим Богом и что в будущей загробной жизни их ждет справедливая награда за те страдания и унижения, которые они претерпели на земле. К богатым религия обращалась со словом увещания, напоминая им, что земные интересы не составляют всей природы человека и не исчерпывают ее, что они должны быть подчинены другим, более высоким целям, а потому в этой жизни следует обуздывать и ограничивать себя. Со своей стороны светская власть, занимая главенствующее положение в экономической области, подчиняя себе до известной степени хозяйственную деятельность, регулировала ее проявления. Наконец, внутри самого делового мира ремесленная корпорация, регламентируя заработную плату, цены на продукты и даже самое производство, косвенным образом фиксировала средний уровень дохода, которым, естественно, определяется в значительной мере и самый размер потребностей. Описывая эту организацию, мы, конечно, вовсе не желаем выставлять ее как образец. Само собой разумеется, что весь этот порядок вещей не может быть без глубоких преобразований приложен к современному обществу. Мы сейчас только констатируем тот факт, что он имел свои положительные стороны и что в настоящее время уже нет ничего подобного. В самом деле, религия, можно сказать, потеряла громадную долю своей власти. Правительственная власть, вместо того чтобы быть регулятором экономической жизни, сделалась ее слугой и орудием. Самые противоположные школы, ортодоксальные экономисты, с одной стороны, и крайние социалисты—с другой, согласны с тем, что правительство должно занять более или менее пассивную роль посредника между различными социальными функциями. Одни хотят свести роль государства до простого охранителя индивидуальных договоров; другие склонны возложить на него обязанность вести коллективную отчетность, т. е. регистрацию запросов потребителей, передачу их производителям, делать опись общей суммы дохода и раскладывать его на основании установленной формулы. Но и те, и другие не признают за правительственной властью никаких способностей к тому, чтобы подчинить себе остальные социальные органы и заставлять их служить какой-либо одной доминирующей цели. С той и с другой стороны заявляют, что нация своим главным, если не единственным, попечением должна иметь промышленное преуспевание страны; это предполагает догма экономического материализма, но это же лежит в основе и других систем, на первый взгляд столь ему враждебных. Все эти теории только отражают господствующее общественное мнение; фактически промышленность, вместо того чтобы служить средством к достижению высшей цели, уже сделалась сама по себе центром конечных стремлений как индивидуумов, так и общества. В силу этого индивидуальные аппетиты разрастаются беспредельно и выходят из-под влияния какого бы то ни было сдерживающего их авторитета. Этот апофеоз материального благополучия их освятил и поставил, так сказать, над всяким человеческим законом. Ставить на этом пути какие-либо препятствия считается в настоящее время оскорблением святыни, и поэтому даже та чисто утилитарная регламентация промышленности, которую мог бы осуществить сам промышленный мир при помощи своих корпораций, не в состоянии пустить корни. Самое развитие промышленности и беспредельное расширение рынков неизбежно благоприятствуют в свою очередь безудержному росту человеческих желаний. Пока производитель мог сбывать свои продукты только своим непосредственным соседям, умеренность возможной прибыли не могла, конечно, возбудить чрезмерных притязаний. Но теперь, когда производитель может считать своим клиентом почти целый мир, можно ли думать, что человеческие страсти, опьяненные этой широкой перспективой, удержатся в прежних границах? Вот откуда происходит это крайнее возбуждение, которое от одной части общества передалось и всем остальным. В промышленном мире кризис и состояние аномии суть явления не только постоянные, но, можно даже сказать, нормальные. Алчные вожделения охватывают людей всех слоев и не могут найти себе определенной точки приложения. Ничто не может успокоить их, потому что цель, к которой они стремятся, бесконечно превышает все то, чего они могут действительно достигнуть. Лихорадочная ненасытная погоня за воображаемым обесценивает наличную действительность и заставляет пренебрегать ею; как только удается достигнуть ближайшей цели и что-нибудь раньше только желанное и возможное становится совершившимся фактом, тотчас же неудержимая страсть к новым возможностям влечет человека еще и еще дальше. Люди мучаются жаждой новых, еще не изведанных наслаждений, не испытанных ощущений; но последние тотчас же теряют свою соль, как только станут известны. И достаточно какой-нибудь превратности судьбы для того, чтобы человек оказался бессильным перенести это испытание. Лихорадочное возбуждение падает, и человек видит, как бесплодно было все это смятение и как все это море беспредельных желаний не оставляет после себя никакого солидного запаса благополучия, который можно было бы использовать в годы тяжелых испытаний. Разумный человек умеет найти удовлетворение в том, чего ему удалось достигнуть, и не испытывает неустанной жажды погони за чем-либо большим, и потому в момент несчастного стечения обстоятельств он не склоняется под ударами судьбы и не падает духом. Но тот, кто всю свою жизнь жил только будущим, отдавал ему все силы души, тот не может найти на страницах своего прошлого ничего такого, что бы помогло ему перенести горечь настоящего, ибо вся прошлая его жизнь была только одним нетерпеливым ожиданием будущих благ. Ослепленный этим ожиданием, он искал далекого счастья, все время только ускользавшего от него. Когда какое-либо препятствие остановит такого человека, то все планы его окажутся разрушенными, и ни позади себя, ни перед собой ему не на чем будет остановить своего взора. В конце концов даже одно ощущение усталости способно породить безнадежное разочарование, ибо трудно не почувствовать всей бессмысленности погони за недостижимым. И поэтому с полным основанием можно спросить себя: не в силу ли вышеуказанных причин морального порядка экономические кризисы были за последнее время столь плодовиты самоубийствами? В разумно дисциплинированном обществе отдельный индивид легче переносит все удары судьбы. Будучи заранее приучен к воздержанию и умеренности, человек с гораздо меньшим напряжением воли может претерпеть новые необходимые лишения. Но если человеку ненавистны всякие границы как таковые, то может ли более тесное ограничение не показаться невыносимым? Лихорадочное нетерпение, в котором человек жил до тех пор, менее всего предрасполагает к дальнейшему самоотречению. Как больно сознавать, что жизнь жестоко отбросила его назад, если единственной его жизненной задачей является стремление постоянно превосходить тот пункт, которого он в данный момент достиг. Самая дезорганизация, столь характерная для нашего экономического строя, широко открывает дверь для всякого рода авантюр. Фантазия работает неустанно, и так как над ней нет никакого сдерживающего начала, то она находится всецело во власти случая. Вместе с риском растет и процент неудач, и больше всего крахов наблюдается как раз тогда, когда они особенно убийственны. А между тем эти наклонности настолько укоренились в обществе, что оно уже вполне привыкло к ним и считает их совершенно нормальным явлением. Часто утверждают, что чувство постоянного недовольства заложено в самой природе человека, что он без отдыха и покоя стремится к неопределенной цели. Страсть к бесконечному в настоящее время даже считается признаком морального превосходства, тогда как она может зародиться лишь в сознаниях расстроенных, возвышающих в закон эту беспорядочность, от которой они страдают. Символом веры сделалась доктрина возможно более быстрого прогресса. Но наряду с такими теориями, превозносящими благодеяния неустойчивости, можно наблюдать появление и других, которые, обобщая породившее их положение вещей, объявляют жизнь дурной, более обильной несчастьями, нежели радостями, полной обманчивых соблазнов. Так как этот разлад достигает своего апогея в экономическом мире, то и более всего жертв приходится именно на этот последний. Промышленные и коммерческие отрасли занятий действительно насчитывают наибольшее число случаев самоубийства в своих рядах. Число это почти равняется тому, которое относится к свободным профессиям, а иногда даже превосходит его; особенно резко чувствуется обилие самоубийств в этой категории по сравнению с земледельческим населением. Это объясняется тем, что именно в сельской промышленности сдерживающие и регулирующие силы больше всего сохранили свое влияние и здесь нет такой благоприятной почвы для всякого рода лихорадочных спекуляций. В этой среде лучше всего сохранились общие основы прежнего экономического порядка. Разница эта была бы еще более значительна, если бы среди самоубийц промышленной среды делали точное различие между хозяином и рабочим, потому что вполне вероятно, что первые сильнее вторых захвачены ослаблением социальных уз. Громадный процент самоубийств среди так называемых рантье (720 человек на 1 млн) достаточно убедительно говорит нам о том, что к самоубийству сильнее всего склонны люди, облагодетельствованные судьбой. Все, что требует от людей известного подчинения, ослабляет влияние вышеуказанного состояния. Умственный горизонт низших классов ограничен пределом, поставленным им классами, стоящими выше, и от этого желания их носят более определенный характер. Но те, кто выше себя чувствует уже одно только пустое пространство, невольно в нем теряются при отсутствии той силы, которая могла бы отодвигать их назад. Поэтому аномия является в наших современных обществах регулярным и специфическим фактором самоубийств; это одно из тех веяний, которыми определяется ежегодная сумма самоубийств. Следовательно, можно сказать, что мы имеем сейчас дело с новым, отличным от всех других типом самоубийства. Разница заключается в том, что данный тип зависит от характера связи между индивидами и обществом, но не от того способа, каким эта связь регламентируется. Эгоистическое самоубийство проистекает оттого, что люди не видят смысла в жизни, альтруистическое — вызывается тем, что индивид видит смысл жизни вне ее самой; третий, только что установленный нами вид определяется беспорядочной, неурегулированной человеческой деятельностью и сопутствующими ей страданиями. Принимая во внимание его происхождение, мы дадим этому последнему виду самоубийства название аномичного. Нельзя, конечно, отрицать, что между этим и эгоистическим видом самоубийства существует некоторое родство. И тот, и другой в своем корне определяются отчужденностью, недостаточной близостью общества к индивиду, но «сфера бездействия», если можно так выразиться, в этих двух случаях совершенно различна. В первом, т. е. при эгоистическом виде самоубийства, дефект находится в собственно коллективной деятельности, которая лишается своего смысла и значения. Наоборот, при аномичном самоубийстве решающую роль играют исключительно индивидуальные страсти, которые не встречают на своем пути никакой сдерживающей силы. Поэтому можно сказать, что эти два типа самоубийства, несмотря на то что они имеют целый ряд общих точек соприкосновения, остаются независимыми друг от друга. Можно отдавать на служение обществу все, что только есть в нашем существе по своей природе социального, и в то же время не уметь сдерживать своих желаний; можно, вовсе не будучи по натуре своей эгоистом, пребывать в аномичном состоянии, и наоборот. Эгоистическое и аномичное самоубийства большую часть своих жертв вербуют в разнородных слоях общества: первое распространено по преимуществу среди интеллигенции, в сфере умственного труда; второе наблюдается главным образом в мире торговли и промышленности. IV Не одна только экономическая аномия оказывает свое действие на развитие самоубийств. Те случаи, которые имеют место при наступлении критического периода вдовства, объясняются, как мы уже говорили об этом раньше, влиянием домашней аномии, как неизбежного результата смерти одного из супругов. Расстройство семейного очага тяжело отзывается на том, кому приходится пережить своего жизненного спутника. Он не может приспособиться к своему новому одинокому положению, и соблазн самоубийства легче увлекает его. Но существует еще одна разновидность анемичного самоубийства, которая должна обратить на себя наше особое внимание как потому, что она в большинстве случаев имеет право считаться явлением хроническим, так и потому, что она бросает новый свет на самую природу и функцию брака. В «Annales de la demographic Internationale» (сентябрь 1882 г.) Г. Бертильон напечатал замечательно интересную работу по вопросу о разводе, в которой он выдвинул, между прочим, следующее положение: в Европе количество самоубийств изменяется прямо пропорционально числу разводов и раздельных жительств супругов. Если сравнить различные страны с этой двойной точки зрения, то можно легко установить параллелизм этих двух явлений. Мы имеем в данном случае не только совпадение средних чисел, но даже и деталей. Исключение представляет собой только Голландия, где уровень самоубийств не соответствует числу разводов. Мы получим еще лучшее подтверждение этого закона, если повторим сравнение различных случаев по отношению к различным провинциям одной и той же страны. Например, в Швейцарии совпадение между двумя рассматриваемыми явлениями поразительно. Наибольшее число разводов падает на протестантские кантоны, и в той же самой среде наблюдается всего больше случаев самоубийства. Затем следуют кантоны со смешанным населением, с обеих точек зрения, и наконец кантоны католические. Внутри каждой из этих групп нужно отметить такое же совпадение. Среди католических кантонов Золотурн, Аппенцель, Иннер-роден выделяются своим количеством разводов; то же самое приходится заметить относительно числа происходящих там самоубийств. Во Фрибурге, который представляет собою французский и католический кантон, наблюдается умеренное число разводов и в свою очередь умеренный процент самоубийств. Среди немецких протестантских кантонов всего сильнее в этом смысле выделяется Шаф-гаузен; он же стоит и во главе самоубийств. Среди кантонов со смешанным населением, за исключением Ааргау, можно наблюдать тот же порядок в обоих отношениях. Аналогичный результат получается и в том случае, если сравниваются различные французские департаменты. Распределив их на восемь категорий в зависимости от их смертности — самоубийств, мы констатировали, что группы эти сохраняют тот же порядок по отношению к разводу и раздельному жительству супругов. Установив это состояние, постараемся объяснить его. Исключительно для памяти мы приведем сначала то объяснение, которое дает нам в общих чертах М. Бертильон. По его убеждению, число самоубийств и разводов варьирует параллельно, потому что и то, и другое явление зависят от одного фактора большего или меньшего количества плохо уравновешенных людей. В самом деле, говорит он, в стране тем большее количество разводов, чем больше число невыносимых супругов. Эти последние встречаются чаще всего среди людей неуравновешенных, с дурным, неустановившимся характером, темперамент которых в той же степени предрасполагает их к самоубийству; поэтому параллелизм этих двух явлений объясняется вовсе не тем обстоятельством, что развод сам по себе имеет влияние на наклонность к самоубийству, но их общим происхождением из одного источника, который они только разным образом выражают. Совершенно произвольно и бездоказательно, однако, связывать таким образом развод с известными недостатками психопатического характера: нет никакого основания предполагать, чтобы в Швейцарии было в 15 раз больше людей неуравновешенных, чем в Италии, и в 6 или 7 раз больше, чем во Франции, а между тем развод в первой из этих стран встречается в 15 раз чаще, чем во второй, и приблизительно в 7 раз чаще, чем в третьей. Кроме того, мы теперь прекрасно знаем, насколько чисто индивидуальные причины играют слабую роль по отношению к самоубийству. В последующем изложении читатель найдет еще более веские доказательства неудовлетворительности этой теории. Причину этого любопытного соотношения между двумя данными явлениями надо искать не в органическом предрасположении субъекта, но во внутренней природе самого развода. По этому пункту может быть прежде всего установлено следующее положение: во всех странах, относительно которых мы располагаем достаточно полными статистическими данными, число самоубийств среди разведенных супругов значительно выше, нежели среди остальных членов общества. Итак, разведенные супруги обоего пола лишают себя жизни в 3—4 раза чаще, чем люди, состоящие в браке, хотя по возрасту своему они являются более молодыми (40 лет во Франции вместо 46 лет), и случаи самоубийства среди первых значительно чаще, чем у вдовых, несмотря на то что последние в силу одного своего возраста имеют повышенную степень предрасположения лишать себя жизни. Чем же это объясняется? Без сомнения, перемена материального и морального режима, как прямое последствие развода, не может не оказывать в данном случае известной доли влияния; но одного этого влияния недостаточно для объяснения интересующего нас явления. Не надо забывать, что вдовство есть не менее глубокое потрясение личной жизни человека; последствия его могут оказаться даже еще более прискорбными, поскольку смерть мужа или жены является ударом судьбы, тогда как развод служит желанным освобождением от нестерпимого сожительства, и, несмотря на все это, разведенные супруги, которые по своему возрасту должны были бы вдвое реже кончать с собой, нежели вдовые, повсеместно превосходят их в этом отношении, и в некоторых странах почти вдвое. Подобная повышенная наклонность, коэффициент увеличения которой колеблется от 2,5 до 4, никоим образом не зависит от перемены в положении данных индивидов. Для того чтобы найти истинную причину интересующего нас явления, будет всего лучше, если мы возвратимся к одному из вышеустановленных нами положений. В III главе этой книги читатель мог уже видеть, что в одном и том же обществе наклонность вдовых к самоубийству находится в зависимости от соответствующей наклонности людей, состоящих в браке. Если последние являются по отношению к самоубийству людьми хорошо защищенными, то иммунитет первых несколько слабее, но все же достаточно силен; и тот пол, который наиболее выигрывает от брачного сожительства, сохраняет свое преимущество и в период вдовства. Одним словом, когда брачный союз расстраивается вследствие смерти одного из супругов, влияние брака часто еще продолжает сказываться на оставшемся в живых супруге. А в таком случае разве мы не имеем права предположить, что то же явление повторяется и при разрушении брака не смертью одного из супругов, а особым юридическим актом и что повышенная наклонность к самоубийству со стороны разведенных супругов есть следствие не развода, а того брака, которому развод кладет конец. Это увеличение числа случаев самоубийства находит себе объяснение в том, что супруги, хотя и разведенные, продолжают чувствовать на себе известное влияние условий своего бывшего брака. Если они обнаруживают теперь такую резкую склонность к самоубийству, то надо думать, что предрасположение к нему они имели уже и раньше, что оно укоренилось в их психике еще в то время, когда они жили вместе, и именно в силу их совместной жизни. Как только мы примем это положение, соотношение, существующее между разводом и самоубийством, станет вполне понятным. В самом деле, среди тех народов, где развод встречается часто, тот своеобразный характер брака, который сказывается и на разведенных, неизбежно должен иметь большее распространение, ибо он, конечно, не является специальной принадлежностью тех браков, которым предназначено судьбой закончиться юридическим расторжением. Если среди этих последних интересующая нас особенность и достигает своей максимальной интенсивности, то у других или по крайней мере у большинства других супружеств можно также найти ее, но только в более слабой степени. Подобно тому как в той среде, где много самоубийств, должно быть много попыток к самоубийству, и подобно тому, как смертность не может увеличиться без того, чтобы одновременно не возросло число заболеваемости, точно так же в том обществе, где много разводов, должно быть вместе с тем много супружеств, близких к разводу. Число разведенных не может увеличиваться без того, чтобы в той же мере не развивалось и не становилось общим фактом то состояние семьи, которое предрасполагает к самоубийству, и потому вполне естественно, что оба эти явления варьируют в одном и том же направлении. Независимо от того, что гипотеза эта подтверждается всеми аргументами, приведенными нами в предыдущем изложении, она может быть еще доказана самым непосредственным путем. В самом деле, если мнение наше основательно, то в тех случаях, где совершается большое число разводов, супруги должны иметь более слабый иммунитет по отношению к самоубийству, чем там, где браки не расторгаются. Факты подтверждают это мнение, по крайней мере поскольку дело идет о супругах. Италия, страна католическая, где развод совершенно неизвестен, соответственно с этим имеет наиболее высокий коэффициент предохранения для супругов; коэффициент этот меньше во Франции, где раздельное жительство супругов всегда было более частым явлением; и мы можем проследить постепенное понижение этого коэффициента, если обратимся к тем странам, где развод широко практикуется. Мы не могли найти цифры разводов для великого герцогства Ольденбургского, но, принимая во внимание, что это протестантская страна, можно думать, что они должны быть там довольно частым явлением, хотя не чрезмерным, потому что католическое меньшинство там довольно значительно. Ольденбургское герцогство должно стоять в этом отношении приблизительно в одном ряду с Баденом и Пруссией. Одинаковое положение занимает оно в смысле иммунитета супругов; 100 000 холостых старше 15 лет дают ежегодно 52 случая самоубийства, на 100 000 супругов приходится 66 случаев. Коэффициент предохранения для последних равняется 0,79; мы имеем здесь очень большую разницу по сравнению с коэффициентом, наблюдаемым в католических странах, где развод или очень редко встречается, или совершенно неизвестен. Франция дает нам возможность сделать наблюдение, подтверждающее все остальные и тем более для нас ценное, что оно еще более точно, чем все предыдущие. В департаменте Сены развод распространен гораздо больше, чем во всей остальной стране. В 1885 г. число разводов равнялось 23,99 на 10 000 ненарушенных браков, тогда как в остальной части Франции среднее число разводов достигало только 5,65. И действительно, он только один раз, для периода 20— 25 лет, достигает 3; но правильность этой цифры подлежит большому сомнению, потому что она вычислена на основании слишком небольшого числа случаев в предположении, что в этом возрасте среди супругов случается ежегодно только одно самоубийство. Начиная с 30 лет коэффициент не идет выше 2, чаще всего он бывает ниже, а между 60—70 годами спускается ниже единицы. В среднем она равняется 1,73. Напротив, в прочих департаментах в 5 случаях из 8 он выше 3; в среднем равняется 2,88, т. е. в 1,66 раза значительнее, чем в департаменте Сены. Мы имеем здесь новое доказательство того, что высокое число самоубийств в стране, где развод имеет широкое распространение, не зависит от какого-либо органического предрасположения, в особенности от числа неуравновешенных субъектов. Если бы тут заключалась настоящая причина, органическое предрасположение должно было бы одинаковым образом отзываться и на женатых, и на холостых. В действительности же всю тяжесть несут на себе первые; поэтому надо думать, что источник зла лежит, как мы и предполагали, в какой-нибудь особенности либо семьи, либо брака. Объясняется ли меньший иммунитет супругов состоянием домашней среды или состоянием брачного союза? Является ли в данном случае недоброкачественным дух семьи или супружеская связь стоит не на должной высоте? Первое предположение отпадает в силу того факта, что в тех странах, где всего больше встречается разводов, количество детей вполне достаточно и в силу этого сплоченность семьи очень высока. Мы же хорошо знаем, что сплоченность семьи несет с собою крепкий семейный дух. Поэтому есть полное основание думать, что объяснение интересующего нас явления надо искать в природе брака. В самом деле, если бы уменьшение коэффициента можно было отнести на счет положения семьи, то жены также должны были бы пользоваться меньшею степенью предохраненности от самоубийства в странах с широкой практикой развода, так как они не меньше мужей страдают от дурных домашних условий. В действительности имеет место как раз обратное: коэффициент предохранения замужних женщин повышается по мере того, как понижается коэффициент предохранения у женатых мужчин, т. е. по мере того, как учащаются разводы, и наоборот. Чем чаще и легче разрываются супружеские связи, тем в более благоприятном положении по отношению к своему мужу оказывается жена. Противоположность этих двух рядов коэффициентов прямо поразительна. В странах, где разводов совсем нет, женщина предохранена от самоубийства слабее, чем мужчина; это обстоятельство яснее выступает в Италии, чем во Франции, где брак всегда был менее прочным. Напротив, как только развод получает широкое распространение, тотчас же муж оказывается в худшем положении, чем жена, и преимущество последней растет по мере развития практики развода. Как и в предыдущем случае, великое герцогство Ольденбургское стоит на одном уровне с другими странами Германии, где развод имеет среднюю степень распространенности. 1 млн девушек дает 203 случая самоубийств, 1 млн замужних—156, следовательно, коэффициент предохранения у последних равняется 1,3 и значительно превышает коэффициент супругов — 0,79. Первый в 1,64 раза больше второго — приблизительно так же, как и в Пруссии. Сравнение департамента Сены с остальными провинциями блестящим образом подтверждает этот закон. В провинции, где развод встречается реже, средняя величина коэффициента замужних женщин равняется 1,49 и представляет собой только половину среднего мужского коэффициента — 2,88. В департаменте Сень? мы имеем как раз обратное соотношение. Иммунитет мужчин выражается коэффициентом 1,56 и даже 1,44, если оставить в стороне довольно сомнительные данные относительно 20—25 лет; иммунитет женщин равняется 1,79. Положение жены по отношению к мужу здесь вдвое благоприятнее, чем в департаментах. Можно констатировать аналогичное явление, если обратиться к провинциям Пруссии. Провинции, где на 100000 браков приходится:
Коэффициенты всей первой группы значительно выше, чем второй, и наибольшее понижение наблюдается в третьей. Тессен представляет собой в этом случае единственную аномалию, где в силу неизвестных причин замужние женщины одарены довольно значительным иммунитетом, хотя развод там и редко практикуется. Несмотря на такую согласованность всех данных, подвергнем правильность нашего закона еще последнему испытанию. Вместо того чтобы сравнивать иммунитет мужей с иммунитетом жен, постараемся определить, каким образом — конечно, различным в отдельных странах — видоизменяет брак взаимное положение полов в отношении самоубийства? В тех странах, где развод отсутствует совершенно или есть только практика совсем недавнего прошлого, можно видеть, что женщина в большей пропорции участвует в самоубийствах не состоящих в браке, чем в самоубийствах лиц, в браке состоящих. Отсюда вытекает вывод, что в этих странах брак благоприятствует мужу больше, чем жене, и невыгодное положение последней более резко выступает в Италии, чем во Франции. Средний излишек относительной доли замужних женщин над девушками вдвое больше в первой стране, чем во второй. Как только мы перейдем к народам, где институт развода функционирует самым широким образом, то получим обратные результаты. Здесь на почве брака выигрывает женщина и теряет мужчина; преимущество женщины более резко выступает в Пруссии, чем в Бадене, и в Саксонии сильнее, чем в Пруссии. Оно достигает своего максимума в тех странах, где институт развода в свою очередь пользуется наибольшим распространением. Таким образом, можно считать неоспоримым нижеследующий закон: брак тем более благоприятствует женщине в смысле защиты ее от самоубийства, чем более распространен в данном обществе институт развода, и обратно. Из этого закона вытекают два следствия. Первое из них состоит в том, что одни только мужья способствуют тому увеличению процента самоубийств, которое наблюдается в странах с часто практикующимися разводами, ибо жены убивают себя здесь меньше, чем в прочих странах. Если институт развода не может развиваться без того, чтобы улучшалось моральное положение женщины, то совершенно недопустимо связывание его с каким-либо отрицательным состоянием домашней среды, оказывающим усиленное влияние на наклонность к самоубийству, потому что это действие должно было бы отразиться на жене не меньше, чем на муже. Упадок семейного духа не может оказывать противоположного влияния на два различных пола: не может благоприятствовать положению матери, если он тяжело ложится на отца. Следовательно, истинная причина изучаемого нами явления заключается в положении брачного, а не семейного союза. И действительно, весьма возможно, что брак оказывает на мужа и жену совершенно обратное влияние. Как родители супруги могут иметь общие цели, но как сожители они могут иметь самые различные и даже противоположные интересы. Вполне возможно, что в известных обществах эта сторона брака благоприятствует одному супругу и в то же самое время вредит другому. Из предыдущего изложения мы видим, что именно так обстоит дело при разводе. Во-вторых, на том же самом основании мы должны отвергнуть гипотезу, согласно которой неудовлетворительное состояние брака, с его двойным последствием в виде повышения числа самоубийств и разводов, исчерпывается частыми домашними ссорами. Подобная причина точно так же, как и упадок семейных связей, не может иметь своим результатом увеличения иммунитета жены. Если бы процент самоубийств в той среде, где развод широко практикуется, действительно определялся количеством домашних раздоров, то жена должна была бы страдать от этого в одинаковой степени с мужем. Здесь нельзя найти ничего такого, что по своей природе могло бы предохранять исключительно женщину от самоубийства. Подобная гипотеза тем более неосновательна, что чаще всего развод требуется женой (во Франции — 60% разводов и 83% раздельных жительств). Значит, вина в нарушении семейного мира в громадном большинстве случаев ложится на мужчину. Но тогда было бы непонятно, каким образом в странах с большим числом разводов мужчина убивает себя чаще потому, что заставляет больше страдать жену, а жена, напротив, убивает себя реже потому, что ее муж заставляет ее страдать больше. К тому же вовсе не доказано, что число супружеских раздоров увеличивается в той же мере, как и число разводов. Покончив с этой гипотезой, мы остаемся лицом к лицу только с одним возможным объяснением. Очевидно, что сам институт развода своим влиянием на брак склоняет человека к самоубийству. В самом деле, что представляет собой брак? Регламентацию отношений между полами, охватывающую не только сферу физиологических инстинктов, но и всевозможных чувств, привитых цивилизацией на почве материальных интересов. Ибо любовь в наше время в гораздо большей степени духовное, чем органическое, чувство. Мужчина ищет в женщине не только одного — удовлетворения потребности деторождения. Если это естественное стремление и послужило зародышем всей половой эволюции, то оно прогрессивно усложнялось множеством различных эстетических и моральных чувств, и в настоящее время оно является только ничтожным элементом того многосложного процесса, которому оно когда-то положило начало. Под влиянием этих интеллектуальных элементов половое чувство как бы одухотворилось и отчасти освободилось от оков тела. Оно в равной мере питается как моральными исканиями, так и физическими побуждениями, и потому в нем нет уже той автоматической регулярной периодичности, которая проявляется у животного. Психическое возбуждение может вызвать это чувство во всякое время, и оно ничем не связано с определенным периодом года. Но именно в силу того, что эти различные склонности преобразовались под влиянием времени и не находятся уже более в непосредственном подчинении органической необходимости, для них и нужна социальная регламентация. Если организм внутри себя не находит ничего сдерживающего подобные чувства, то эту обязанность должно взять на себя общество. В этом заключается функция брака. Брак, особенно в своей моногамической форме, регулирует всю эту жизнь страстей. Возлагая на мужчину обязанность вечно любить одну и ту же женщину, единобрачие указывает чувству любви совершенно определенный предмет и тем самым закрывает дальнейшие горизонты. Благодаря этой определенности и устанавливается то моральное равновесие, которым пользуется супруг. Не нарушая своего долга верности, он не может искать других удовлетворений, кроме тех, которые ему разрешены браком, а потому ограничивает себя в своих желаниях. Спасительная дисциплина, которой подвергается супруг, заставляет его искать счастья в том положении, которое выпало ему на долю, и тем самым дает ему для этого средства. К тому же если чувство одного супруга не склонно к перемене, то объект его отвечает ему тем же: ведь обязательство верности носит взаимный характер. Радости его определены, они обеспечены, и все это действует самым положительным образом на направление его ума. Совершенно иное представляет собою положение холостяка. Для него нет никаких ограничений в его привязанностях, он хватается за все, и ничто его не удовлетворяет. Внутренний яд беспредельных стремлений, который аномия всюду несет с собой, проникает и в эту область нашего сознания, как и во всякую другую; очень часто при таких обстоятельствах половое чувство принимает ту форму, которую описал Мюссе. Трудно удержать самого себя, если извне никто не сдерживает. Испытав одни наслаждения, человек уже рисует в своем воображении новые удовольствия, и как скоро он проходит весь круг возможного, то, мучимый постоянною жаждою новизны, он будет мечтать о несбыточном. Как же не впасть в отчаяние при такой нескончаемой погоне за неуловимым счастьем? Для того чтобы дойти до такого состояния, даже вовсе не необходимо пережить такую массу любовных приключений, как Дон Жуан; достаточно среднего образа жизни какого-нибудь самого вульгарного холостяка. Без конца родятся и вслед за тем разбиваются жизнью всевозможные надежды, и в душе непрерывно растет чувство усталости и разочарования. И как может укрепиться в уме человека то или иное желание, если нет никакой уверенности в том, что объект желания может быть сохранен. Ведь аномия двустороння: если человек не может вполне отдаться, он не может и вполне овладеть. Неверность будущего вместе со своей собственной половинчатостью лишают его навсегда покоя. Из всего этого вытекает беспокойство, возбужденное состояние и недовольство, неминуемо несущее с собою большую степень наклонности к самоубийству. Но развод предполагает ослабление брачной регламентации; там, где он практикуется, в особенности же там, где право и нравы усиливают его практику, брак является только слабым намеком на то, чем он должен быть. Это брак второго сорта, и поэтому он не может иметь присущих ему благоприятных результатов. Границы, которые он ставил для чувства, теряют свою определенность; они лишаются устойчивости и только в слабой степени могут сдерживать страсти, которые принимают самые широкие размеры. Чувство уже не так легко подчиняется тем условиям, которые ему предписаны. Исчезают спокойствие, моральная уравновешенность, составлявшие преимущество человека, состоящего в браке; на их месте появляется известное состояние беспокойства, мешающее человеку дорожить тем. что у него есть. Он тем не менее обращает внимание на настоящее, благосостояние его кажется ему неустойчивым, будущее — менее определенным. Нельзя прочно держаться за ту позицию, на которой находишься, если она в любой момент может быть разрушена с той или другой стороны. В силу этих причин в странах, где влияние брака в сильной степени умеряется разводами, неизбежно ослабляется иммунитет женатого человека. Так как вследствие этого состояние его приближается к состоянию холостяка, он не может не потерять части своих преимуществ. Таким образом увеличивается общее число самоубийств. Но такие последствия развода касаются исключительно мужа и неприменимы к жене. В самом деле, половая сторона жизни женщины имеет гораздо менее интеллектуальный характер в силу того, что вообще умственная жизнь ее менее сильно развита. Половые потребности женщины более непосредственно связаны с требованиями ее организма, скорее следуют за ними, чем их опережают, и таким образом находят в них действительную узду. В женщине гораздо сильнее, чем в мужчине, развит инстинкт, и, для того чтобы найти для себя покой и мир, ей достаточно только следовать ему. Та узкая социальная регламентация, которую несет с собою брак, и в особенности моногамный брак, является для нее необходимой. Но эта дисциплина даже там, где она полезна, сопряжена с рядом неудобств; определяя навсегда брачные условия, она тем самым отрезает отступление, какими бы условиями оно ни было вызвано. Ограничивая горизонт человека, она запирает все возможные выходы, запрещает всякие, даже вполне лояльные, надежды. Мужчина также часто страдает от этой неподвижности, но зло, причиняемое ему ею, широко компенсируется теми благодеяниями, которые он, с другой стороны, получает от нее; к тому же сами нравы данного общества дают ему известные привилегии, позволяющие в известной степени смягчить всю суровость супружеского режима. Для женщины, наоборот, не существует ни компенсаций, ни смягчений. Для нее моногамия есть строжайшее обязательство, не допускающее никаких послаблений; с другой стороны, брак не нужен для нее, по крайней мере в той степени, как для мужчины, чтобы ограничить ее и без того естественным образом ограниченные желания и чтобы научить ее довольствоваться своим жребием; он только мешает ей изменить свою жизнь, когда она станет для нее нестерпимой. Таким образом, супружеская регламентация делается для нее стеснением, лишенным больших преимуществ. Следовательно, все, что смягчает эту регламентацию, может только улучшить положение замужней женщины — вот почему наличность развода является для нее благоприятным обстоятельством и почему она охотно к нему прибегает. Таким образом, мы видим, что состояние супружеской аномии, создаваемое институтом развода, объясняет параллельный рост числа разводов и самоубийств. Поэтому-то такого рода самоубийства мужей в странах с часто встречающимися разводами увеличивают число добровольных смертей и составляют одну из разновидностей анемичного самоубийства. Они происходят не потому, что в этих обществах существует большее число дурных супругов или супруг и вследствие этого больше несчастных браков; они являются результатом морального состояния sui generis, которое само по себе вытекает из ослабления брачной регламентации; это возникшее в течение супружества состояние, переживающее самый брак, одно только и развивает наклонность к самоубийству, которую обнаруживают разводы. Мы не хотим сказать, что это разрушение брачного регламента целиком создано законным введением развода. Юридический развод является всегда на сцену только для того, чтобы освятить нравы общества, сложившиеся до него. Если общественное сознание не пришло бы мало-помалу к заключению, что неразрывность супружеских уз бессмысленна, закон не мог бы сделать их более легко расторжимыми. Брачная аномия может, таким образом, существовать в умах людей даже тогда, когда она не провозглашена законом. Но с другой стороны, она может проявлять все свои последствия только тогда, когда она облечена в законную форму. Поскольку брачное право не смягчено, оно хотя материальным путем может сдерживать человеческие страсти; оно препятствует тому, чтобы вкус к аномии не завоевал себе в умах людей слишком большого места, уже одним тем, что не одобряет его. Вот почему аномия проявляет свои особенно характерные, резко бросающиеся в глаза черты только там, где она становится юридическим институтом. Помимо того что это объяснение бросает свет на параллелизм, наблюдаемый между числом разводов и самоубийств, и те обратные отклонения, которые наблюдаются в области иммунитета мужей и жен, оно подтверждается также многими другими фактами. 1) Только при наличии развода мужей может иметь место настоящая брачная неустойчивость; только он один окончательно разрушает супружеские узы, тогда как раздельное жительство только отчасти ограничивает брак, не давая супругам окончательной свободы. Если эта специальная форма аномии действительно усиливает наклонность к самоубийству, разведенные должны обладать ею в гораздо более сильной степени, чем супруги, жительствующие раздельно. Это именно и вытекает из единственного документа, который мы по этому поводу имеем. Согласно вычислениям, сделанным Legoyt, в Саксонии в течение периода от 1847—1856 гг. на 1 млн разведенных приходилось 1400 самоубийств, а на 1 млн раздельно жительствующих только 176. Это последнее число меньше даже того, которое выпадает на долю женатых (318). 2) Если столь сильная степень наклонности к самоубийству, наблюдаемая у холостяков, в известной своей части зависит от половой аномии, то именно в тот момент, когда половое чувство находится в состоянии наивысшего возбуждения, она должна ощущаться всего сильнее. В самом деле, от 20 до 45 лет процент самоубийств холостяков гораздо быстрее возрастает, чем впоследствии; в течение этого периода он учетверяется, тогда как начиная с 45 лет вплоть до предельного 85-летнего возраста он только удваивается. Что же касается женщин, то среди них этого ускоренного темпа не наблюдается; в возрасте от 20 до 45 лет число самоубийств среди девушек даже не удваивается, а со 106 поднимается всего до 171. Таким образом, период половой жизни не влечет за собой роста женских самоубийств. Это обстоятельство только подтверждает вышесказанное нами относительно того, что женщина мало подвержена этой форме аномии. 3) Наконец, множество фактов, установленных в главе III этой книги, находят себе объяснение в только что предложенной теории и этим самым могут служить для нее проверкой. Мы видели там, что брак во Франции независимо от семейных условий давал человеку коэффициент предохранения, равный 1,5; теперь мы знаем, чему этот коэффициент соответствует. Он представляет собою те преимущества, которые извлекает для себя человек из регулирующего влияния, оказываемого на него браком, из его умеряющего воздействия на страсти и вытекающего отсюда благополучия. Но и в то же самое время мы констатировали, что в этой же стране условия жизни замужней женщины ухудшились постольку, поскольку присутствие детей не исправило дурных для нее последствий брака. Мы только что указали причину этого явления. Это объясняется не тем, что мужчина по природе своей зол и эгоистичен и играет роль мучителя, заставляющего страдать подругу жизни, а только тем обстоятельством, что во Франции, где до настоящего времени брак не был ослаблен разводом, он ставил для женщины нерушимые правила жизни, ярмо, которое было для нее слишком тяжело переносимо и совершенно не давало никаких выгод. Вообще, вот та причина, которой обязан своим существованием этот антагонизм полов, не позволяющий мужчине и женщине в одинаковой степени пользоваться преимуществами брака: у них совершенно различные интересы,— одному необходимо стеснение, другой свобода. Между тем оказывается, что в известные моменты жизни мужчина получает от брака то же, что и женщина, но в силу других причин. Если, как мы указали выше, молодые мужья чаще лишают себя жизни, чем холостые того же возраста, то это указывает на то, что страсти их в это время слишком беспорядочны и они слишком полагаются на самих себя, для того чтобы быть в состоянии подчиниться таким суровым правилам брачной жизни. Брак кажется им непреодолимым препятствием, на которое наталкиваются и о которое разбиваются все их желания. Вот почему возможно, что брак оказывает все свое благотворное влияние только тогда, когда возраст немного успокаивает страсти человека и дает ему чувствовать всю необходимость дисциплины. Наконец, в той же самой главе мы видели, что там, где брак благоприятнее для жены, чем для мужа, разница между числом самоубийств тех и других всегда меньше, чем при обратных условиях. Это является доказательством того, что даже в обществах, где брачное состояние дает преимущества женщине, оно оказывает ей услуг меньше, чем мужчине, ибо последний все же выигрывает от него больше, чем она. Если оно (состояние.— Примеч. ред.) стесняет ее, она от него страдает, но не может выиграть от него ничего даже в том случае, если оно отвечает ее интересам; это доказывает только то, что она не испытывает в браке никакой необходимости, а это и есть именно то самое, что предполагает вышеизложенная теория. Результаты, полученные нами раньше и вытекающие из данной главы, совпадают и взаимно подтверждают друг друга. Мы пришли, таким образом, к заключению, крайне далекому от того мнения, которое обыкновенно составляют о браке и его роли в жизни человека. Его считают учреждением, защищающим интересы женщины и охраняющим ее слабость от мужского своеволия. Моногамия, в частности, часто изображается в виде жертвы, которую мужчина приносит в ущерб своим полигамическим инстинктам, для того чтобы возвысить и улучшить путем брака условия жизни женщины. На самом деле, каковы бы ни были исторические причины, которые заставили его решиться на подобное самоограничение, от него выигрывает только он сам. Свобода, от которой он таким образом отказался, являлась для него только источником мучения. У женщины не было этих причин, и потому можно смело сказать, что, подчиняясь этим правилам, жертву приносит она, а не мужчина. ГЛАВА VI. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ САМОУБИЙСТВОдин из выводов, к которым привело до сих пор наше исследование, гласит: существует не один определенный вид самоубийства, а несколько его видов. Конечно, по существу своему самоубийство всегда есть и будет поступком человека, который предпочитает смерть жизни, но определяющие его причины не во всех случаях одинаковы; иногда они, напротив, по природе своей совершенно противоположны. Вполне понятно, что разные причины приводят и к различным результатам. Поэтому можно быть вполне уверенным, что существует несколько типов самоубийств, качественно различных друг от друга. Но еще недостаточно показать, что это различие должно существовать; необходимо непосредственно уловить его наблюдением и указать, в чем оно заключается. Необходимо, чтобы частные случаи самоубийства были сгруппированы в определенные классы, соответствующие установленным выше типам. Таким образом, является возможность проследить весь разнообразный ряд самоубийств, начиная от их социального источника до их индивидуальных проявлений. Эта морфологическая классификация, казавшаяся в начале этого труда невозможной, может быть с успехом испробована теперь, когда основание для нее открывается в классификации этиологической. В самом деле, нам достаточно для этого взять за точку отправления три найденных нами вида факторов самоубийства и установить, могут ли те отличительные особенности, которые обнаруживают самоубийства, реализуясь различными субъектами, вытекать из этих факторов, и каким образом. Конечно, невозможно вывести таким путем все существующие особенности самоубийств, так как некоторые из них должны зависеть от личной природы данных индивидов. Каждое самоубийство носит на себе отпечаток личности, представляет собой проявление темперамента того лица, которое его совершает, зависит от тех условий, в которых оно производится, и поэтому не может быть всецело объяснено одними только общими и социальными причинами. Но эти последние в свою очередь должны наложить на все самоубийства известный колорит sui generis, придать им определенную специфическую особенность. Эту-то коллективную печать нам и предстоит выяснить. Конечно, это исследование не может быть произведено с безусловной точностью; мы не в состоянии сделать методического описания всех ежедневно совершаемых самоубийств или всех случаев, имевших место на всем протяжении истории. Мы можем установить только самые общие значительные типы, не имея к тому же вполне объективного критерия, который дал бы нам возможность сделать этот выбор. Более того, мы можем идти только дедуктивным методом в попытках связать их с теми причинами, от которых они, повидимому, происходят. Все, что в нашей власти,— это показать их логическую необходимость, не имея зачастую возможности подкрепить наши рассуждения экспериментальным доказательством. Конечно, мы прекрасно сознаем, что такая дедукция, которая не может быть проверена опытом, всегда подозрительна, но даже при наличии этих оговорок нельзя сомневаться в полезности нашего изыскания. Даже в том случае, если бы оно не дало ничего, кроме иллюстраций вышеприведенных выводов, оно все же представляло бы некоторый плюс, сообщая этим выводам более конкретную форму, связывая их более тесным образом с данными наблюдения и деталями повседневного опыта. Но этого мало — оно даст нам возможность ввести некоторые разграничения в массу таких фактов, которые обыкновенно смешиваются между собой, как будто бы вся разница между ними исчерпывалась одними только оттенками; тогда как в действительности между ними существует иногда диаметральное различие. Это имеет место по отношению к самоубийству и умственному расстройству. Последнее в глазах профанов представляет собой некоторое определенное состояние, способное только в зависимости от обстоятельств изменяться внешним образом. Для психиатра это слово обозначает, наоборот, целый ряд различных типов болезни. Точно так же в обыденной жизни самоубийцу представляют себе обыкновенно меланхоликом, тяготящимся жизнью. В действительности те акты, посредством которых люди расстаются с жизнью, группируются в различные виды, имеющие самое различное моральное и социальное значение. I Первый вид самоубийства, без сомнения известный уже в античном мире, но в особенности распространенный в настоящее время, представляет в его идеальном типе Рафаэль Ламартина. Характерной его чертою является состояние томительной меланхолии, парализующей всякую деятельность человека. Всевозможные дела, общественная служба, полезный труд, даже домашние обязанности внушают ему только чувство безразличия и отчуждения. Ему невыносимо соприкосновение с внешним миром, и, наоборот, мысль и внутренний мир выигрывают настолько же, насколько теряет внешняя дееспособность. Закрывая глаза на все окружающее, человек главным образом обращает внимание на состояние своего сознания; он избирает его единственным предметом своего анализа и наблюдений. Но в силу этой исключительной концентрации он только углубляет ту пропасть, которая отделяет его от окружающего его мира; с того момента, как индивид начинает заниматься только самим собой, он уже не может думать о том, что не касается только его. и, углубляя это состояние, увеличивает свое одиночество. Занимаясь только самим собой, нельзя найти повода заинтересоваться чем-нибудь другим. Всякая деятельность в известном смысле альтруистична, так как она центробежна и как бы раздвигает рамки живого существа за его собственные пределы. Размышление же, наоборот, содержит в себе нечто личное и эгоистическое; так, оно возможно только при условии, если субъект освобождается из-под влияния объекта, отдаляется от него и обращает мысли внутрь самого себя; и чем совершеннее и полнее будет это сосредоточение в себе, тем интенсивнее будет размышление. Действие возможно только при наличии соприкосновения с объектом; наоборот, для того чтобы думать об объекте, надо уйти от него, надо созерцать его извне; в еще большей степени такое отчуждение необходимо для того, чтобы думать о самом себе. Тот человек, вся деятельность которого направлена на внутреннюю мысль, становится нечувствительным ко всему, что его окружает. Если он любит, то не для того, чтобы отдать себя другому существу и соединиться с ним в плодотворном союзе; нет, он любит для того, чтобы иметь возможность размышлять о своей любви. Страсти его только кажущиеся, потому что они бесплодны; они рассеиваются в пустой игре образов, не производя ничего существующего вне их самих. Но с другой стороны, всякая внутренняя жизнь получает свое первоначальное содержание из внешнего мира. Мы можем мыслить лишь объекты и тот способ, каким мы их мыслим. Мы не можем размышлять о нашем сознании, беря его в состоянии полной неопределенности: в таком виде оно непредставимо. Определиться же оно может только с помощью чего-нибудь другого, находящегося вне его самого. Поэтому, если оно, индивидуализируясь, переходит за границу известной черты, если оно слишком радикально порывает со всем остальным миром, миром людей и вещей — оно уже лишает себя возможности черпать из тех источников, которыми оно нормально должно питаться, и не имеет ничего, к чему оно могло бы быть приложено. Создавая вокруг себя пустоту, оно создает ее и внутри себя, и предметом его размышления становится лишь его собственная духовная нищета. Тогда человек может думать только о той пустоте, которая образовалась в его душе, и о той тоске, которая является ее следствием. Оно и ограничивается этим самосозерцанием, отдаваясь ему с какой-то болезненной радостью, хорошо известной Ламартину, который прекрасно описал это чувство, вложив рассказ о нем в уста своего героя: «Все окружающее меня было наполнено тем же томлением, что и моя душа, и удивительно гармонировало с нею и увеличивало мою тоску, придавая ей особую прелесть. Я погружался в бездны этой тоски, но она была живая, полная мыслей, впечатлений, слияния с бесконечностью разнообразных светотеней моей души, и поэтому у меня никогда не являлось желания освободиться от нее. Это была болезнь, но болезнь, вызывавшая вместо страдания чувство наслаждения, и следующая за ней смерть рисовалась в виде сладостного погружения в бесконечность. Я решился с этого времени отдаваться этой тоске всецело, запереться от могущего меня развлечь общества, обречь себя на молчание, одиночество и холодность по отношению к тем людям, которые могут встретиться мне на моем жизненном пути; я хотел, чтобы одиночество моей души было для меня как бы саваном, который, скрывая от меня людей, давал бы возможность созерцать только природу и Бога». Но нельзя оставаться только созерцателем пустоты— она неминуемо должна поглотить человека; напрасно ей дают название бесконечности; природа ее от этого не изменяется. Когда сознание, что он не существует, доставляет человеку столько удовольствия, то всецело удовлетворить свою наклонность можно только путем совершенного отказа от существования. Этот вывод вполне совпадает с отмеченным Гартманном параллелизмом между развитием сознания и ослаблением любви к жизни. Действительно, мысль и движение— это две антагонистические силы, изменяющиеся в отношении обратной пропорциональности; но движение есть в то же самое время и жизнь. Говорят, что мыслить — значит удерживать себя от действия; это значит в то же время и в той же мере удерживать себя от жизни; вот почему абсолютное царство мысли невозможно, так как оно есть смерть. Но это еще не значит, как говорит Гартманн, что действительность сама по себе нетерпима и выносима только тогда, когда она замаскирована иллюзией. Тоска не присуща предметам; она не является продуктом мира, она есть создание нашей мысли. Мы сами создаем ее от начала до конца, и для этого нужно, чтобы наша мысль функционировала ненормально. Если сознание человека делается для него источником несчастья, то это случается только тогда, когда оно достигает болезненного развития, когда, восставая против своей собственной природы, оно считает себя абсолютом и в себе самом ищет свою цель. Это состояние настолько мало может считаться результатом новейшей культуры, так мало зависит от завоеваний, сделанных наукой, что мы можем заимствовать у стоицизма главнейшие элементы его описания. Стоицизм также учит, что человек должен отречься от всего, что лежит вне его, чтобы жить своим внутренним миром и только с помощью одного себя. Но так как в таком случае жизнь лишается всякого смысла, то эта доктрина ведет к самоубийству. Тот же самый характер носит и финал, являющийся логическим последствием этого морального состояния. Развязка не заключает в себе в данном случае ничего порывистого и страстного. Человек точно определяет час своей смерти и задолго наперед составляет план ее выполнения; медленный способ не отталкивает его; последние моменты его жизни окрашены спокойной меланхолией, иногда переходящей в бесконечную мягкость. Такой человек до самого конца не прекращает самоанализа. Образчиком такого случая может служить рассказ, передаваемый нам Falret: один негоциант удалился в мало посещаемый лес и обрек себя на голодную смерть. В продолжение агонии, длившейся около трех недель, он аккуратно вел дневник, куда записывал все свои впечатления; впоследствии этот дневник дошел до нас. Другой умирает от удушения, раздувая ртом уголья, которые должны привести его к смерти, и непрерывно записывает свои наблюдения: «Я не собираюсь больше показывать ни храбрости, ни трусости, я хочу только употребить оставшиеся у меня моменты для того, чтобы описать те ощущения, которые испытываешь, задыхаясь, и продолжительность получаемых от этого страданий». Другой, прежде чем пойти навстречу «пленительной перспективе покоя», как он выражается, изобретает сложный инструмент, который должен был лишить его жизни так, чтобы на полу не осталось следов крови. Нетрудно заметить, что все эти различные особенности
относятся к эгоистическому самоубийству. Совершенно несомненно, что они
являются следствием и выражением специфического характера именно этого вида
самоубийства. Эта нелюбовь к действию, эта меланхоличная оторванность от
окружающего мира являются результатом того преувеличенного индивидуализма,
которым мы охарактеризовали выше данный тип самоубийств. Если индивид
уединяется от людей, это значит, что нити, связывавшие его с ними, ослабели или
порвались; это значит, что общество в тех точках, где он с ним соприкасался,
недостаточно сплочено. Эти пустоты, разъединяющие отдельные сознания и
делающие их чуждыми друг другу, непосредственно происходят от распадения
социальной ткани. Наконец, интеллектуальный и рассудочный характер этого типа
самоубийств без труда объясняется, если вспомнить, что эгоистическое
самоубийство необходимо сопровождается сильным развитием науки и рефлексии. В
самом деле, очевидно, в обществе, где сознание обычно вынуждено расширять свое
поле действия, оно также очень часто расположено выходить за те Но эта возвышенная форма эгоистического самоубийства не является единственной для него; оно может иметь и другую, более вульгарную. Субъект часто, вместо того чтобы грустно размышлять о своей судьбе, относится к ней весело и легкомысленно. Он сознает свой эгоизм и логически вытекающие из него последствия, но он заранее принимает их и продолжает жить, как дитя или животное, с той только разницей, что он отдает себе отчет в том, что он делает. Он задается одной задачей — удовлетворять свои личные потребности, даже упрощая их для того, чтобы наверное быть в состоянии удовлетворить их. Зная, что ни на что другое он не может надеяться, он ничего другого и не требует, всегда готовый, в случае если он не будет в состояний достигнуть этой единственной цели, разделаться со своим бессмысленным существованием. К этому типу принадлежит самоубийство, практиковавшееся у эпикурейцев. Эпикур не предписывал своим ученикам стремиться к смерти, он советовал им, наоборот, жить до тех пор, пока жизнь представляет для них какой-нибудь интерес. Но так как он чувствовал, что если у Человека нет никакой другой цели, то каждую минуту qn может потерять и ту, которая у него есть, и что чувственное удовольствие слишком тонкая нить, чтобы прочно привязать человека к жизни, то он убеждал их бьтть всегда готовыми расстаться с нею по первому зову обстоятельств. Таким образом, здесь мы видим, что философская мечтательная меланхолия уступает место скептическому и рассудочному хладнокровию, особенно сильно проявляющемуся в час последней развязки. Здесь человек наносит себе удар без ненависти, без гнева, но и без того болезненного удовлетворения, с которым интеллектуалист смакует свое самоубийство; первый еще бесстрастнее второго; его не поражает тот исход, к которому он пришел. Это событие в более или менее близком будущем он хорошо предвидел; поэтому он не затрудняет себя долгими приготовлениями, а только, следуя желаниям своего внутреннего «я», старается уменьшить свои страдания. Таким обыкновенно бывает самоубийство хорошо поживших людей, которые с наступлением неизбежного момента, когда становится невозможно продолжать свое легкое существование, убивают себя с ироническим равнодушием, спокойствием' и своеобразной простотой. Когда мы устанавливали альтруистический тип самоубийств, мы иллюстрировали его достаточным количеством примеров, и нам не представляется необходимым дальнейшее описание характеризующих его психологических форм. Они диаметрально противоположны тем, которые обнаруживаются в Эгоистическом самоубийстве, подобно тому как и сам, альтруизм является прямой антитезой эгоизму. Убивающий себя эгоист отличается полным упадком (сил, выражающимся или в томительной меланхолии, или в эпикурейском безразличии. Альтруистическое самоубийство, наоборот, имея своим происхождением страстное чувство, происходит не без некоторого проявления энергии. В случаях обязательного самоубийства эта энергия вкладывается в распоряжение разума или воли; субъект убивает себя, потому что так велит ему его сознание, он действует, подчиняясь известному повелению; поэтому его поступок характеризуется по преимуществу той ясной твердостью/ которую рождает чувство исполняемого долга; смерть Катона является историческим образчиком этого типа. В других случаях, когда альтруизм принимает особенно острые формы, этот его акт носит более страстный и менее рассудочный характер. Тогда — перед нами порыв веры и энтузиазма, бросающий человека в объятия смерти. Сам по себе этот энтузиазм рывает радостного или мрачного характера, согласно тому, является ли смерть способом соединиться с горячо любимым божеством или носит характер искупительной жертвы, предназначенной для умилостивления жестокой и враждебной силы. Религиозный экстаз фанатика, считающего блаженством быть раздавленным колесницею своего идола, не то же самое, что «acedia» монаха или угрызения совести преступника, который кончает с собой для того, чтобы искупить свою вину. Но под этими различными оттенками основные черты явления остаются неизменными. Это — тип активной? самоубийства, являющегося в силу этого контрасте того упадочного типа, о котором речь шла выше. Такой вид встречается даже среди более простых типов самоубийств; например, он наблюдается у солдата, который убивает себя вследствие того, что легкая обида запятнала его честь, или просто с целью доказать свою храбрость. Но та легкость, с которой совершаются подобного рода самоубийства, не должна быть смешиваема с рассудочным хладнокровием эпикурейцев готовность человека пожертвовать своей жизнью не перестает быть активной наклонностью даже тогда, кргда она глубоко вкоренилась в существо человека и оказывает на него влияние с легкостью и самопроизвольностью инстинкта. Leroy передает нам факт, который может служить примером этого. Дело касается офицера, который, после того как уже раз безуспешно пытался повеситься, готовится возобновить покушение на свою жизнь, но предварительно заботится о том, чтобы записать свои последние впечатления. «Странная судьба выпала мне на долю,— пишет он.— Я только что пытался повеситься, уже потерял сознание, но веревка оборвалась, и я упал на левую руку... Окончив новые приготовления, я хочу снова попытаться лишить себя жизни, но хочу выкурить еще одну трубку; я надеюсь, последнюю. Первый раз совершить самоубийство для меня не представляло никакой урудности; надеюсь, что и теперь не будет никакого затруднения. Я так же спокоен, как если бы я утром, собирался выпить рюмку водки; бесспорно, это несколько странно, но между тем это действительно так. Все написанное — правда. Я умру второй раз со спокойной совестью». Под этим спокойствием не кроется ни иронии, ни скептицизма, ни особого невольного содрогания, которого решившийся на самоубийство прожигатель жизни никогда не мог бы скрыть. Спокойствие — полное; никаких
следов самопринуждения, акт совершается от чистого сердца, потому Наконец, существует третий тип самоубийств, отличающийся от первого тем, что совершение его всегда носит характер страстности, а от вторых тем, что вдохновляющая его страсть совершенно иного происхождения. Здесь не может быть речи об энтузиазме, религиозной вере, морали или политике, ни о какой-нибудь военной доблести; здесь играют ролъ гнев и все то, что обыкновенно сопровождает разочарование. Brierre de Boismont, рассмотревший воспоминания 1507 самоубийц, констатировал тот факт, что большинство из них было проникнуто отчаянием и раздражением. Иногда они выражались в проклятиях, в горячем протесте против жизни вообще; иногда это были жалобы на определенное лицо, которое самоубийца считал ответственным за все свои несчастья. К этой группе, очевидно, относятся самоубийства, являющиеся как бы дополнением предварительно совершенного убийства: человек лишает себя жизни, убив перед этим того, кого он считает отравившим ему жизнь. Нигде отчаяние самоубийцы не проявляется так сильно, как в этих случаях, ведь тут онообнаруживается не только в словах, но и в поступках. Убивающий себя эгоист никогда не допустит себя до таких диких насилий; случается, конечно, что и он пеняет на жизнь, но в более жалобном тоне; жизнь угнетает его, но не вызывает острого чувства раздражения; он скорее ощущает ее пустоту, чем ее печали; она не интересует его, но и не внушает ему положительных страданий; то состояние подавленности, в котором он находится, не допускает его даже терять самообладание. Что же касается альтруиста, то он находится совсем в другом состоянии. Он приносит в жертву себя, а не своих близких. Таким образом, перед нами особый, отличный от предыдущих психический феномен; он характеризует собою природу анемичного самоубийства. В самом деле, акты, лишенные планомерности и регулярности, не согласующиеся ни между собой, ни с теми условиями, которым они должны отвечать, не могут уберечься от болезненного между собой столкновения. Аномия независимо от того, прогрессивна она или регрессивна, освобождая желания от всякого ограничения, широко открывает дверь иллюзиям, а следовательно, и разочарованию. Человек, внезапно вырванный из тех условий, к которым он привык, не может не впасть в отчаяние, чувствуя, что из-под ног его ускользает та почва, хозяином которой он себя считал; и отчаяние его, конечно, обращается в сторону той причины — реальной или воображаемой, которой он приписывает свое несчастье. Если он считает себя ответственным за то, что случилось, то гнев его обращается против него самого; если виноват не он, то — против другого. В первом случае самоубийства не бывает, во втором оно может следовать за убийством или за каким-нибудь другим проявлением насилия. Чувство в обоих случаях одно и то же, изменяется только его проявление. В таких случаях человек всегда лишает себя жизни в гневном состоянии, если даже его самоубийству и не предшествовало никакого убийства. Нарушение всех его привычек вызывает в нем острое раздражение, которое ищет исхода в каком-нибудь разрушительном поступке. Объект, на которого изливается этот образовавшийся таким образом избыток страсти, играет второстепенную роль. От случая зависит, в каком направлении разрядится накопленный запас энергии. То же самое наблюдается и тогда, когда человек отнюдь не опускается, а, наоборот, непрерывно стремится, но без нормы и меры, превзойти самого себя. Иногда он теряет ту цель, достигнуть которой он считает себя способным, но которая на самом деле превосходила его силы; это — самоубийства непризнанных людей, часто встречающиеся в эпоху, когда нарушена всякая определенная классификация. Иногда же случается, что после того, как человеку в течение долгого времени удавалось удовлетворять все свои прихоти и желания, он наталкивается на такое препятствие, которое у него не хватает силы преодолеть, и он нетерпеливо спешит прекратить свое существование, которое с этого момента становится для него полным лишений. В таком положении находился Вертер, неугомонное сердце, как он сам себя называл,— человек, влюбленный в бесконечное, убивающий себя оттого, что любовь его была безответна. Таковы те артисты, которые, долгое время наслаждаясь блестящим усг/е-хом, убивают себя после одного услышанного свистка, или прочитав о себе слишком суровую критику, рли потому, что мода на них начинает проходить. Существуют и такие самоубийцы, которые не мбгут пожаловаться ни на людей, ни на обстоятельства, а сами по себе устают в бесконечной погоне за недостижимой целью, в которой желания их не только неудовлетворяются, но возбуждаются еще сильнее; тогда они возмущаются жизнью и обвиняют ее в том, что она обманула их. Между тем то тщетное возбуждение, во власти которого они находились, оставляет после себя особого рода изнеможение, мешающее ослабевшим страстям проявляться с той же силой, как и в предыдущих случаях; они как бы утрачивают свою силу и поэтому с меньшей энергией оказывают свое влияние на человека; индивид, таким образом, впадает в состояние меланхолии и до некоторой степени напоминает собой интеллектуального эгоиста, но не ощущает в своей меланхолии присущей этому последнему томительной прелести; в нем доминирует более или менее сильное отвращение к жизни. Подобное состояние у своих современников уже наблюдал Сенека одновременно с вытекающими из него самоубийствами. «Поражающее нас зло находится не около нас, оно — в нас самих. Мы лишены сил что-либо перенести, не в состоянии вытерпеть страдания, нетерпеливы, не можем, наслаждаться радостью. Сколько людей призывают смерть потому, что, испробовав все возможные перемены, они приходят к заключению, что им знакомы уже все ощущения и ничего нового они испытать не могут». В новейшей литературе наиболее ярким представителем такого типа является Рене у Шатобриана. В то время, как Рафаэль — мечтатель, погружающийся в себя, Рене — ненасытен. «Меня упрекают в том,— восклицает он с горечью,— что у меня непостоянные вкусы, что одна и та же химера не в состоянии долго занимать меня, что я вечно нахожусь во власти воображения, которое стремится возможно скорее исчерпать дно моих желаний, как будто их наличность его удручает; меня обвиняют в том, что я всегда ставлю себе цель, которой не могу достигнуть; увы! я только ищу неизвестное благо, которое я инстинктивно чувствую. Не моя в том вина, что я повсюду нахожу препятствия и что все уже достигнутое теряет для меня всякую ценность». Это описание довершает характеристику тех черт сходства и различия между самоубийством эгоистическим и аномичным, которые уже были выше установлены нашим социологическим анализом. Самоубийцы и того, и другого типа страдают тем, что можно называть «болезнью бесконечности», но в обоих случаях эта болезнь принимает неодинаковые формы. В первом случае мы имеем дело с рассудочным умом, который испытывает болезненное изменение и чрезмерно гипертрофируется, во втором случае дело идет о чрезмерной и нерегулярной чувствительности. У одного — мысль, возвращаясь все время к самой себе, теряет наконец всякий объект, у другого— не знающая границ страсть не видит впереди никакой цели; первый теряется в бесконечности мечтаний, второй — в бездне желаний. Таким образом, мы видим, что психологическая формула самоубийцы не так проста, как это обыкновенно думают. Сказать, что он устал, испытывает отвращение к жизни, еще не значит определить эту формулу. На самом деле существуют самые различные типы самоубийц, и эти различия ощущаются особенно сильно в том способе, которым совершается самоубийство. Можно таким путем распределить самоубийства и самоубийц на определенное количество видов; они должны совпадать в их существенных чертах с типами, установленными нами выше, согласно природе тех социальных причин, от которых они зависят; они являются как бы продолжением этих социальных фактов во внутреннем мире индивида. Необходимо прибавить, что они не всегда наблюдаются в опыте в чистом виде; часто случается, что они комбинируются между собой и дают начало сложным видам; признаки, принадлежащие нескольким из них, встречаются одновременно в одном и том же самоубийстве. Причиной этого явления служит то обстоятельство, что различные причины самоубийства могут одновременно оказывать свое действие на одного и того же индивида, и таким образом результаты их перемешиваются. Так, мы видим часто больного, подверженного различным бредовым идеям, которые перепутываются между собой, но все же воздействуют в одном и том же направлении и, несмотря на различное происхождение, приводят к одному и тому же поступку; они взаимно усиливают друг друга. Таким же образом различные лихорадки, соединяясь у одного и того же субъекта, способствуют каждая поднятию температуры его тела. Существует два фактора самоубийства, обладающих по отношению друг к другу особым сходством,— это эгоизм и аномия. В самом деле, нам известно, что обыкновенно они представляют собой только две различные стороны одного и того же социального состояния, поэтому нет ничего удивительного, что они могут встретиться у одного и того же индивида. Даже почти неизбежно бывает так, что у эгоиста замечается наклонность к беспорядочности: так как он оторван от общества, последнее уже не может регулировать его внутреннего мира. Если же, тем не менее, желания его разгораются чрезмерно, то это происходит вследствие того, что жизнь страстей течет у него очень медленно, что взоры его обращены всецело на него самого и окружающий мир не привлекает его. Но может случиться, что человек не будет ни полным эгоистом, ни ярко эмоциональным типом; в таком случае он соединяет в себе две соперничающие между собою личности. Для того чтобы заполнить пустоту, которую он ощущает внутри себя, он ищет новых ощущений; правда, в это искание он вкладывает меньше горячности, чем человек действительно страстный, но зато он быстрее устает, чем этот последний, и эта усталость снова направляет его внимание на самого себя и усиливает его первоначальную меланхолию. Наоборот, дезорганизаторская тенденция не может не содержать в себе зачатка эгоизма, так как нельзя восстать против всяких социальных уз, будучи в сильной степени социализированным человеком. Только там, где первенствующую роль играет аномия, зачаток этот не имеет возможности развиться, потому что аномия, заставляя человека выходить из границ, тем самым мешает ему уединиться в самом себе. Но в том случае, если действие аномии менее интенсивно, она позволяет в известной степени эгоизму проявить себя. Например, то препятствие, на которое наталкивается ненасытное желание человека, может заставить его обратиться к своему внутреннему миру и поискать в нем отвлекающего средства против своих потерпевших крушение страстей. Но так как он не находит там ничего такого, за что он мог бы прочно ухватиться, и так как тоска, которую в нем вызывает созерцание этого зрелища, может только усилить желание бежать от самого себя, то, конечно, вследствие всего этого его беспокойство и недовольство только возрастают. Таким образом возникает тип смешанных самоубийств, где подавленность чередуется с возбуждением, мечта с действительностью, порывы желаний с меланхолическими размышлениями. Аномия может точно так же сочетаться и с альтруизмом. Один и тот же кризис может потрясти существование индивида, нарушить равновесие между ним и его средой и в то же самое время обратить его альтруистические наклонности в состояние, возбуждающее в нем мысль о самоубийстве. Это тот случай, который мы называем самоубийством одержимых. Если, например, евреи в большом количестве лишали себя жизни во время взятия Иерусалима, то делали это потому, что, во-первых, победа над ними римлян, превращая их в подданных и данников, тем самым меняла тот образ жизни, к которому они уже привыкли, а во-вторых, потому, что они слишком были преданы своему культу и слишком любили свой город, для того чтобы пережить неминуемое разрушение того и другого. Точно так же часто случается, что разорившийся человек лишает себя жизни как потому, что он не хочет жить в стесненных обстоятельствах, так и потому, что он хочет спасти свое имя и имя своей семьи от позора банкротства. Если офицеры и унтер-офицеры с легкостью лишают себя жизни в тех случаях, когда они вынуждены подать в отставку, то это также вызывается как мыслью о той перемене, которая должна произойти в их образе жизни, так и их общим предрасположением считать жизнь за ничто. Две различные причины действуют здесь в одном и том же направлении. Результатом их являются самоубийства, в которых страстная экзальтация или непоколебимая твердость альтруистического самоубийства соединяется с безумным отчаянием, являющимся продуктом аномии. Наконец, эгоизм и альтруизм, две полные противоположности, могут скрещиваться в своем воздействии на человека. В известное время, когда распавшееся общество не может уже более концентрировать индивидуальную деятельность, бывают тем не менее индивиды или группы индивидов, которые, испытывая на себе это общее состояние эгоизма, стремятся к чему-то другому. Прекрасно чувствуя, что нельзя уйти от самого себя, переходя от одних эгоистических удовольствий к другим и сознавая, что быстротекущие радости, даже непрестанно обновляемые, никогда не могут усмирить их беспокойства, они ищут более длительного объекта для своей привязанности, который мог бы дать им смысл в жизни, но так как они не дорожат ничем реальным, то получить некоторое удовлетворение они могут только тогда, когда создадут для себя идеальный объект. Мысль их создает это воображаемое бытие, они делаются его слугами и отдаются ему с тем большей исключительностью, что они ненавидят все остальное, даже самих себя. Весь смысл жизни вкладывают они в свой идеал, и ничто иное не имеет для них цены. Они живут, таким образом, двойной, полной противоречий жизнью: являются индивидуалистами по отношению ко всему, что касается реального мира, и безграничными альтруистами по отношению к вышеупомянутому идеальному объекту. А мы знаем, что оба этих состояния неизбежно ведут человека к самоубийству. Таковы признаки и источники стоического самоубийства; мы указали сейчас, каким образом в нем проявляются существенные черты эгоистического самоубийства, но они могут проявляться и другим образом. Если стоик учит абсолютному безразличию ко всему, что выходит за пределы его индивидуального «я», если он заставляет индивида довольствоваться самим собой, то он з то же время ставит его в тесную зависимость от вселенского разума и низводит его до положения орудия, с помощью которого этот разум реализуется. Таким образом, стоик сочетает две противоположные концепции: моральный индивидуализм в наиболее радикальной форме и крайний пантеизм. Таким образом, рекомендуемое им самоубийство является одновременно бесстрастным, как у эгоиста, и облеченным в форму долга, как у альтруиста. В нем проявляются меланхолия одного и деятельная энергия другого; эгоизм в нем перемешивается с мистицизмом. Между прочим, это смешение отличает мистицизм, присущий эпохам падения, от того чрезвычайно отличного от него, несмотря на одинаковую внешность, мистицизма, который наблюдается у молодых народов в период формирования. Первый вытекает из коллективного порыва, увлекающего по одному пути самых различных людей, из самоотвержения, с которым люди забывают себя во имя общего дела; второй является эгоизмом, занятым только собой, тем «ничто», которое старается превзойти себя, но достигает этого только по видимости и искусственным образом. II A priori можно подумать: между природой самоубийства и видом смерти, который выбирает для себя самоубийца, существует какое-нибудь соотношение. В самом деле, представляется вполне естественным, что те средства, которые он употребляет для выполнения своего решения, находятся в зависимости от вызывающих его поступок чувств и, следовательно, выражают их. Поэтому может явиться попытка воспользоваться теми сведениями, которые на этот счет дают нам статистики, и дать более обстоятельную характеристику самоубийств по внешним формам их осуществления. Но все попытки, которые мы предприняли в этом смысле, дали нам только отрицательные результаты. Между тем несомненно, что выбор способа смерти зависит только от социальных причин, так как относительное число различных способов самоубийства в течение долгого времени остается неизменным в рамках одного и того же общества, тогда как оно чувствительно изменяется при переходе от одного общества к другому. У каждого народа есть свой излюбленный вид смерти, и порядок его предпочтений очень редко изменяется. Он даже постояннее, чем общее число самоубийств: обстоятельства, которые иногда слегка изменяют второе, совершенно не затрагивают первого. Больше того, социальные причины имеют настолько преобладающее значение, что влияние космических факторов делается незаметным. Таким образом, число утопленников не изменяется вопреки всем предположениям в зависимости от времени года, согласно какому-либо специальному для этого закону. Вот каково было их помесячное распределение во Франции в течение периода 1872—1878 гг. в сравнении с распределением числа самоубийств вообще.
Мы видим, что число утопленников повышается в течение лета лишь чуть-чуть сильнее, чем число самоубийц вообще; разница очень незначительна. И однако, лето должно было бы благоприятствовать этому виду самоубийства. Правда, говорят, что утопленников бывает больше на юге, чем на севере, и объясняют это обстоятельство влиянием климата. Но в Копенгагене в течение периода 1845—1856 гг. этот способ самоубийства встречался не менее часто, чем в Италии (281 случай вместо 300). В С.-Петербурге в 1873—1874 гг. способ этот применялся чаще всех других. Следовательно, температура не представляет этому роду смерти никаких препятствий. Однако социальные причины, от которых зависят вообще самоубийства, отличаются от тех, которые определяют способ их выполнения, так как нельзя установить никакого соотношения между различаемыми нами типами самоубийств и наиболее распространенными способами их выполнения. Италия — страна глубоко католическая; научная культура ее вплоть до настоящего времени была развита очень слабо; можно было бы предполагать, что альтруистический вид самоубийства распространен в ней больше, чем во Франции и Германии, ибо между ним и уровнем интеллектуального развития наблюдается до известной степени обратная пропорциональность. Следовательно, в силу того что самоубийство путем огнестрельного оружия там чаще встречается, чем в странах, расположенных в центре Европы, можно подумать, что этот способ убивать себя находится в зависимости от альтруизма. Можно даже в подтверждение этого предположения сослаться на то, что этот способ самоубийства предпочитается солдатами. Оказывается, однако, что во Франции наиболее интеллигентная часть населения— писатели, артисты, чиновники — лишает себя жизни этим способом. Точно так же может показаться, что меланхолическое самоубийство всего чаще выражается в повешении; между тем в действительности оно всего чаще встречается в деревнях, хотя меланхолия более присуща городским жителям. Как мы видим, те причины, которые толкают человека на самоубийство, и те, которые заставляют его выбрать определенный род смерти, неодинаковы; условия, определяющие его выбор, имеют совсем иное происхождение. Во-первых, совокупность привычек и всевозможных обстоятельств заставляет его выбрать то, а не иное орудие смерти. Следуя постоянно по пути наименьшего сопротивления, до тех пор пока на сцене не появляется новый фактор, человек хватается за то орудие, которое у него находится непосредственно под руками и которое ежедневное употребление сделало для него наиболее привычным. Вот почему, например, в больших городах чаще бросаются с возвышенных мест: там дома выше, чем в деревнях. Точно так же, по мере того как земной шар покрывается сетью железных дорог, явился новый способ лишать себя жизни, бросаясь под поезд. Таким образом, динамика различных способов самоубийства в общей картине добровольных смертей является показателем' усовершенствования промышленной техники, наиболее распространенной архитектуры, научных знаний(и т. д. Когда электричество будет более распространено, то участятся самоубийства посредством электрического тока. Но причины здесь могут быть еще б^олее наглядны; они зависят от того достоинства, которое имеют различные виды самоубийства в глазах каждого народа или — в пределах одного народа — в глазах известных социальных групп. В самом деле, различные виды смерти занимают разные места; некоторые считаются более благородными, другие — более вульгарными и даже унизительными, и способ их оценки различен у разных социальных групп. В армии, например, обезглавление считается позорной смертью; в других случаях унизительным считается повешение. Вот почему повешение распространено в деревнях гораздо больше, чем в городах, и в маленьких городах гораздо более, чем в больших; это объясняется тем, что этот вид смерти носит на себе отпечаток чего-то грубого и дикого, что оскорбляет утонченность городских нравов и тот культ, который городские классы населения поддерживают по отношению к человеческой личности. Может быть, отвращение к этому виду смерти проистекает еще от того позорного характера, который придан этому способу умерщвления по причинам исторического порядка и который утонченный городской житель воспринимает с большею живостью и чувствительностью, чем деревенский. Следовательно, вид смерти, избранный самоубийцей,
есть явление, совершенно не зависящее от самой природы самоубийства. Как ни
тесно связаны на первый взгляд эти два элемента одного и того же акта, но на
самом деле они не зависят друг от друга; во всяком случае, они обнаруживают
только внешнее совпадение, так как, несмотря на то что оба они зависят от
социальных причин, выражаемые ими социальные состояния далеко не одинаковы; первое
нисколько не объясняет нам второго и требует совершенно самостоятельного
изучения. Вот почему, несмотря на то что обыкновенно исследователи очень
обстоятельно говорят о способах смерти, мы больше не будем останавливаться на
этом вопросе. Это ничего не прибавило бы к тем результатам, которые дали наши
предыдущие изыскания. КНИГА III. О САМОУБИЙСТВЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ ЯВЛЕНИИ ВООБЩЕГлава I Социальный элемент в самоубийстве Глава II Соотношения между самоубийством и другими социальными явлениями Глава III Практические выводы ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В САМОУБИЙСТВЕТеперь, когда мы познакомились с факторами, в зависимости от которых изменяется социальный процент самоубийств, мы можем с точностью определить природу той реальности, которой он соответствует и которую он выражает в числах. I Индивидуальные условия, которым a priori можно приписать влияние на самоубийство, бывают двух родов. Во-первых, существуют внешние обстоятельства, в которых находится самоубийца: иногда люди, лишающие себя жизни, страдают от семейных огорчений, от оскорбленного самолюбия, иногда они удручены бедностью и болезнью, иногда же их мучают укоры совести и т. д. Но мы уже видели, что эти индивидуальные особенности не в состоянии объяснить социального процента самоубийств, потому что он довольно существенно изменяется, в то время как различные комбинации обстоятельств, непосредственно предшествующих отдельным самоубийствам, сохраняют почти ту же относительную частоту. Это доказывает, что они не являются решающими причинами того акта, которому они предшествуют. Та выдающаяся роль, которую они иногда играют в решении, не является еще доказательством их силы. В самом деле, небезызвестно, что выводы, до которых человек дошел путем сознательного размышления, часто бывают только формальными и не имеют другого результата, кроме укрепления прежнего решения, принятого по причинам, для сознания совершенно неизвестным. Кроме того, обстоятельства, которые кажутся причинами самоубийства потому только, что они часто его сопровождают, насчитываются в неограниченном числе. Один убивает себя, живя в богатстве, другой — в бедности; один был несчастлив в семейной жизни, другой при помощи развода разорвал брачные узы, делавшие его несчастным. Здесь лишает себя жизни солдат, который был несправедливо наказан за преступление, которого он не сделал, там преступник убивает себя потому, что его преступление осталось ненаказанным. События жизни, самые разнообразные и иногда противоположные, могут явиться поводом к самоубийству, а это значит, что ни одно из них не может быть названо его специфической причиной. Быть может, возможно по крайней мере искать эту причину в том общем характере, который свойствен всем им? Но существует ли он в действительности? Самое большее, что можно сказать,— это то, что этот общий характер заключается в неприятностях и огорчениях, но совершенно нельзя определить, какой интенсивности должно достигнуть горе, чтобы привести человека к такой трагической развязке. Не существует ни одного самого незначительного недовольства, о котором можно было бы утверждать, что оно не сделается нестерпимым, точно так же как нет никакой необходимости в том, чтобы оно непременно сделалось нестерпимым. Мы видим иногда, что люди переносят ужасные несчастья, в то время как другие убивают себя из-за незначительной досады. Мы уже имели случай указать, что индивиды, жизнь которых особенно тяжела, не принадлежат к числу людей, убивающих себя наиболее часто. Скорее наоборот, избыток удобств жизни вооружает человека против себя самого. Те классы общества легче расстаются с жизнью, которым свободнее и легче живется, и в те эпохи, когда свободы этой всего больше; если и случается в действительности, что личное состояние самоубийцы является основной причиной принятого им решения, то это бывает чрезвычайно редко и, следовательно, не может служить объяснением социального процента самоубийств. И даже те исследователи, которые приписывают наибольшее влияние индивидуальным условиям, ищут их не столько во внешних случайностях, сколько во внутренней природе субъекта, т. е. в биологической его конструкции и той физической среды, от которой она зависит. Самоубийство изображают поэтому как продукт известного темперамента, как эпизод неврастении, подчиненный действию тех же факторов, как и она. Но мы не нашли никакого непосредственного и правильного соотношения между неврастенией и социальным процентом самоубийств. Случается, что эти два явления изменяются в обратном смысле и что одно достигает минимума там, где другое находится в апогее. Мы не нашли также никаких определенных соотношений между движением самоубийств и состоянием физической среды, которая, как говорят, оказывает на нервную систему особенно сильное влияние, как, например, раса, климат, температура. И если даже признать, что при известных условиях невропат проявляет некоторое предрасположение к самоубийству, то это еще не значит, что ему предназначено судьбой лишить себя жизни; и воздействие космических факторов не в состоянии сообщить вполне точное и определенное направление этим чрезвычайно общим наклонностям его природы. Совершенно другие результаты мы получили, когда, оставив в стороне самого индивида, стали искать в природе самих обществ причины того предрасположения к самоубийству, которое наблюдается в каждом из них. Насколько отношения между самоубийством и законами физического и биологического порядка сомнительны и двусмысленны, настолько непосредственны и постоянны соотношения между самоубийством и известными состояниями социальной среды. На этот раз оказались налицо настоящие законы, позволяющие нам испробовать методическую классификацию типов самоубийства. Определенные таким образом нами социологические причины объяснили нам даже те отдельные совпадения, которые часто приписывались влиянию материальных причин и в которых хотели видеть доказательство этого влияния. Если число женщин, покончивших с собой, гораздо меньше, чем число мужчин, то это происходит оттого, что первые гораздо меньше соприкасаются с коллективной жизнью и поэтому менее сильно чувствуют ее дурное или хорошее воздействие. То же самое наблюдается по отношению к старикам и детям, хотя по несколько другим причинам. Затем, если число самоубийств увеличивается начиная с января и кончая июнем, а затем начинает уменьшаться,— это происходит потому, что и социальная деятельность испытывает те же сезонные изменения. Вполне естественно, что различные результаты, которые производит эта деятельность, подчинены тому же самому ритму, как и она сама, а следовательно, наиболее ощутимы в течение первого из указанных периодов; но так как самоубийство есть тоже продукт этой деятельности, то и оно подчиняется тем же законам. Из всех этих фактов можно вывести только то заключение, что процент самоубийств зависит только от социологических причин и что контингент добровольных смертей определяется моральной организацией общества. У каждого народа существует известная коллективная сила определенной интенсивности, толкающая человека на самоубийство. Те поступки, которые совершает самоубийца и которые на первый взгляд кажутся проявлением личного темперамента, являются на самом деле следствием и продолжением некоторого социального состояния, которое находит себе в них внешнее обнаружение. Таким образом разрешается вопрос, поставленный нами в начале этой книги. Следовательно, утверждение, что каждое человеческое общество имеет более или менее сильно выраженную наклонность к самоубийству, не является метафорой; выражение это имеет свое основание в самой природе вещей. Каждая социальная группа действительно имеет к самоубийству определенную, присущую именно ей коллективную наклонность, которая уже определяет собой размеры индивидуальных наклонностей, а отнюдь не наоборот. Наклонность эту образуют те течения эгоизма, альтруизма или аномии, которые в данный момент охватывают общество, а уже их следствием являются предрасположения к томительной меланхолии, или к деятельному самоотречению, или к безнадежной усталости. Эти-то коллективные наклонности, проникая в индивида, и вызывают в нем решение покончить с собой. Что касается случайных происшествий, считающихся обыкновенно ближайшими причинами самоубийства, то они оказывают на человека только то влияние, которое возможно при наличии данного морального предрасположения человека, являющегося в свою очередь только отголоском морального состояния общества. Для того чтобы объяснить отсутствие привязанности к жизни, человек ссылается на обстоятельства, которые его непосредственно окружают; он находит, что жизнь скучна, потому что ему самому скучно. Конечно, с одной стороны, тоска приходит к нему извне, но не зависит от той или другой случайности в его жизни, а от той общественной группы, часть которой он составляет. Вот почему нет ничего, что бы могло служить случайной причиной самоубийства; все зависит от той интенсивности, с которой влекущие за собой самоубийство причины оказывали свое воздействие на индивида. II Это заключение может найти себе подтверждение уже в одном постоянстве процента самоубийств. Если, следуя нашему методу, мы должны были оставить до настоящего времени эту проблему нерешенной, то фактически очевидно, что она не допускает никакого другого решения. Когда Quetelet обратил внимание философов на поразительную регулярность, с которой известные социальные явления повторяются в течение тождественных периодов времени, он полагал, что объяснением ей может служить его теория среднего человека,— теория, оставшаяся до сих пор единственной систематической попыткой дать объяснение этой замечательной особенности. По его мнению, в каждом обществе имеется определенный тип, которого более или менее правильно воспроизводит вся масса индивидов и среди которого только меньшинство имеет тенденцию отклоняться от средней под влиянием причин, нарушающих обычное течение жизни. Например, существует совокупность физических и моральных признаков, наблюдаемая у большинства французов, но которой нет в том же виде и размере у итальянцев и немцев, и наоборот. Так как эти признаки являются наиболее распространенными, то и вытекающие из них поступки встречаются очень часто, они образуют самую обширную группу. Те же индивиды, которые, наоборот, определяются выходящими из ряда особенностями, редки, как и сами эти особенности. С другой стороны, не будучи абсолютно неизменным, общий тип изменяется гораздо медленнее, чем тип индивидуальный, так как гораздо труднее измениться всему обществу в целом, чем отдельным лицам. Это постоянство естественно сообщается и поступкам, которые вытекают из характеристических свойств этого типа. Первые не изменяются ни по качеству, ни по величине, пока не изменяются вторые, а так как в то же время эти способы действия являются наиболее распространенными, то постоянство неизбежно становится общим законом проявлений человеческой активности, как это и показывает статистика. В самом деле, статистик подсчитывает все однородные факты, совершающиеся в недрах одного и того же общества. А так как эти последние остаются неизменными до тех пор, пока сохраняется постоянным общий тип общества, и так как, с другой стороны, изменения типа осуществляются лишь с большими затруднениями, то результаты статистических обследований необходимо должны оставаться одинаковыми в течение довольно длинного ряда последовательных лет. Что же касается тех фактов, которые совершаются под влиянием исключительных особенностей и индивидуальных случайностей, то они, конечно, не обнаруживают такой правильности. Вот почему постоянство никогда не бывает абсолютным. Но это — лишь исключения; следовательно, неизменность можно считать правилом, а изменчивость — исключением. Этому общему типу Quetelet дал название среднего типа, так как он точно определяется, если взять среднюю арифметическую всех индивидуальных типов. Например, если, определивши все длины роста, сложить эти величины и сумму разделить на число подвергавшихся измерению индивидов, то полученное частное выразит с достаточным приближением среднюю длину роста, так как можно допустить, что отклонения вверх и вниз, т. е. люди высокого и низкого роста, встречаются почти в одинаковом количестве. Они компенсируют друг друга и, следовательно, не изменяют частного. Такая теория кажется очень простой; но во-первых, она может быть рассматриваема как объяснение только в том случае, если она дает нам понять, откуда происходит то, что средний тип осуществляется в преобладающей массе индивидов. Для того чтобы он не изменялся в то время, как изменяются эти последние, нужно, чтобы, с одной стороны, он был независим от них, а с другой стороны, чтобы был все же какой-нибудь путь, которым он мог бы накладывать на них свою печать. Правда, исчезает самая эта проблема, если допустить, что интересующий нас тип совпадает с этническим типом. В самом деле, элементы, создающие расу, имея свое происхождение вне индивида, не подчиняются тем изменениям, как и он, хотя в нем и только в нем одном они реализуются. Весьма понятно, что они пронизывают собой чисто индивидуальные элементы и даже служат для них основанием. Однако это объяснение могло бы соответствовать самоубийству лишь в том случае, если бы наклонность, влекущая к нему человека, зависела непосредственно от расы, а мы знаем, что существующие факты противоречат этой гипотезе. Могут сказать, что общее состояние социальной среды, будучи одно и то же для большинства отдельных личностей, касается их всех одинаковым образом и дает им, в частности, одну духовную физиономию. Но ведь по существу своему социальная среда состоит из идей, верований, привычек, общих стремлений; для того чтобы последние могли воздействовать таким образом на индивидов, они должны существовать до известной степени независимо; как видим, этого рода соображения неизбежно приближают нас к тому разрешению вопроса, которое мы предложили выше. В самом деле, здесь молчаливо допускается, что существует коллективная наклонность к самоубийству, из которой вытекают индивидуальные наклонности, и вся задача сводится к тому, чтобы узнать, в чем эта коллективная наклонность состоит и каким образом она действует. Но этого мало: каким бы способом ни объясняли распространенность среднего человеческого типа, понятие о нем ни в каком случае не объяснит той регулярности, с которой воспроизводится социальный процент самоубийств. В самом деле, согласно определению, этот тип может состоять только из тех характерных черт, которые свойственны большинству населения; самоубийство же является делом меньшинства. В тех странах, где оно более всего распространено, насчитывается не больше 300 или 400 случаев на 1 млн населения. Сила, которую инстинкт самосохранения поддерживает у средних людей, исключает самоубийство коренным образом; средний человек не лишает себя жизни. Но в таком случае, если наклонность к самоубийству является редкостью и аномалией, она совершенно чужда среднему типу, и даже глубокое изучение этого последнего не помогло бы нам понять, каким образом число самоубийств может быть постоянным для одного и того же общества, не помогло бы нам объяснить, откуда даже является наклонность к самоубийству. Следовательно, теория Quetetet покоится на неправильном допущении. Он считал установленным тот факт, что постоянство наблюдается только в наиболее общих проявлениях человеческой деятельности; но мы видим, что оно существует в той же степени в спорадических проявлениях, наблюдаемых лишь в изолированных и одиноких пунктах социального поля. Он думал, что ответил на все desideratce, указав на то, каким образом можно объяснить неизменяемость того, что не является исключением; но исключение само имеет свою неизменяемость, нисколько не меньшую, чем всякая другая. Все умирают, каждый живой организм устроен так, что он рано или поздно должен разрушиться. Наоборот, очень мало имеется людей, лишающих себя жизни; у громадного большинства нет ничего такого, что бы вызывало в них склонность к самоубийству; тем не менее процент самоубийств еще более постоянен, чем процент общей смертности. Это значит, что между распространенностью известного признака и его строгим постоянством нет той тесной связи, которую допускал Quetelet. К тому же результаты, к которым приводит его собственный метод, подтверждают наше заключение. В силу его принципа, для того чтобы измерить интенсивность какого-нибудь признака, присущего среднему типу, надо было бы разделить сумму фактов, которыми он заявляет себя среди данного общества, на число индивидов, способных на такое же проявление. Так, например, в такой стране, как Франция, где в течение долгого времени не наблюдалось больше чем 150 случаев самоубийства на 1 млн жителей, средняя интенсивность наклонности к самоубийству выразилась бы следующим отношением: 150:1 000000 = 0,00015; в Англии, где мы имеем только 80 случаев на то же количество населения, это отношение равнялось бы 0,00008. Вот, следовательно, те величины, которыми можно бы было измерять наклонность среднего индивида к самоубийству; но практически такие цифры равны нулю. Столь слабая наклонность до такой степени удалена от самого выполнения, что может считаться несуществующей; сама по себе она не обладает достаточной силой, для того чтобы вызвать самоубийство. Поэтому вся общность такой наклонности еще не может объяснить нам, почему то или иное число самоубийств совершается ежегодно в том или ином обществе. Кроме того, эта оценка очень преувеличена. Quetelet пришел к своим цифрам, приписывая произвольно средним людям известную наклонность к самоубийству на основании проявлений, которые обыкновенно наблюдаются не у среднего человека, а только у небольшого числа исключительных субъектов; таким образом, аномальное служит у него определением нормального. Quetelet думал, правда, избежать этого возражения, указывая на то, что аномальные случаи, отклоняясь то в одну, то в другую сторону от нормы, компенсируются и взаимно уничтожаются. Но такая компенсация имеет место только в отношении тех свойств, которые в различной степени встречаются у всех, каков, например, рост человека. В самом деле, можно допустить, что исключительно большие люди и исключительно малые находятся на земном шаре почти в одном и том же количестве. Следовательно, средняя арифметическая для роста всех этих исключительных субъектов должна приблизительно равняться росту, наиболее обычному среди людей; поэтому именно этот последний и получится в результате статистического подсчета. Но результат будет совершенно противоположен, если дело идет о таком исключительном по своей природе факте, как наклонность к самоубийству; в этом случае способ Quetelet может только искусственным путем подвести под среднюю такой элемент, который в действительности стоит вне этой средней. Конечно, как мы только что видели, этот элемент вводится сюда только в чрезвычайно разбавленном виде и как раз потому, что число индивидов, между которыми он здесь распространяется, значительно выше того их числа, которому он свойствен на самом деле; но если ошибка практически и маловажна, она тем не менее существует. В действительности отношение, вычисленное Quetelet, измеряет собой лишь вероятность того, что человек, принадлежащий к данной социальной группе, покончит с собою в течение года. Если, например, на население в 100000 душ приходится в год 15 самоубийств— значит, имеется 15 шансов на 100000 в пользу того, что любой произвольно выбранный субъект данного общества покончит с собою в течение того же самого промежутка времени. Но эта вероятность не дает нам никакого понятия о размере средней наклонности к самоубийству и не может служить доказательством того, что эта наклонность действительно существует. Тот факт, что столько-то процентов лишают себя жизни, не доказывает еще того, что остальные в каком бы то ни было размере подвержены этой возможности, и не может нам дать никаких указаний относительно природы или интенсивности причин, вызывающих самоубийства. Таким образом, теория о среднем человеке не решает поставленной нами проблемы. Вернемся же к этой последней и посмотрим, как она ставится. Самоубийцы в очень ограниченном количестве рассеяны по земному шару, каждый из них отдельно совершает свой акт, не зная, что другой поступает так же; и тем не менее, пока общество не изменяется, число самоубийц остается неизменным. Для этого нужно, чтобы все индивидуальные проявления, какими бы независимыми друг от друга они ни казались, на самом деле были продуктом одной и той же причины или одной и той же группы причин, воздействующих на индивидов. Иначе нельзя было бы понять, почему ежегодно все различные воли, взаимно друг друга не знающие, приводят к тому же количеству одинаковых актов. Они не оказывают, по крайней мере в большинстве случаев, друг на друга никакого влияния, и между ними нет никакого соглашения; а между тем все происходит так, как будто они выполняют один приказ. Это значит, что в общей среде, окружающей их, существует какая-то сила, которая направляет их в одну и ту же сторону, причем в зависимости от большей или меньшей интенсивности этой силы повышается или понижается число отдельных самоубийств. Проявления интересущей нас силы не изменяются при перемене органической или космической среды, а зависят исключительно от состояния социальной среды, т. е. сила эта коллективна. Другими словами, каждый народ обладает по отношению к самоубийству известной коллективной наклонностью, которая ему присуща и от которой зависит величина той дани, которую этот народ платит добровольной смерти. С этой точки зрения неизменность процента самоубийств не имеет в себе ничего таинственного; она не более загадочна, чем присущий каждому из них индивидуальный характер. Так как каждое общество обладает своим темпераментом, который не меняется изо дня в день, и так как эта наклонность к самоубийству проистекает из морального настроения общественных групп, то она неизбежно различна в разных группах и в течение долгого периода остается постоянной. Она является одним из существенных элементов социального самочувствия. Но у коллективов, как и у отдельных лиц, самочувствие представляет собой наиболее индивидуальную и в то же время наиболее постоянную черту, ибо нет ничего более глубокого и основного, чем оно. А в таком случае и вытекающие из него последствия должны отличаться таким же индивидуальным и устойчивым характером. Вполне естественно даже, что они обнаруживают большее постоянство, чем общая смертность, так как температура, влияние климата, геологические явления — словом, различные условия, от которых зависит человеческое здоровье, подвержены из года в год гораздо большим изменениям, чем национальный характер. Существует, однако, еще одна гипотеза, отличающаяся, по-видимому, от предыдущей и не лишенная для некоторых умов известной притягательной силы. Для того чтобы разрешить затруднение, не достаточно ли будет предположить, что различные события частной жизни, которые кажутся определяющими причинами самоубийства, по преимуществу регулярно возобновляются каждый год в одной и той же пропорции? Каждый год, говорят нам, совершается одинаковое приблизительно число несчастных браков, банкротств, крушений карьеры, разорений и т. д. Поэтому вполне естественно, что, попадая ежегодно в одно и то же положение в одном и том же числе, индивиды в том же числе принимают решение, вытекающее из этого положения. Нет надобности воображать, что они подчиняются при этом давлению тяготеющей над ними силы; достаточно предположить, что, поставленные в одни и те же условия, они в общем рассуждают одинаково. Но мы знаем, что эти индивидуальные обстоятельства если и предшествуют обыкновенно самоубийствам, то не являются их действительными причинами. Скажем еще раз, что в жизни человека не существует несчастий, влекущих его неизбежно к самоубийству, если он в силу чего-либо другого не склонен к нему сам. Регулярность, с которой известные обстоятельства способны повторяться, не может поэтому объяснить регулярности самоубийств. Сверх того, какое бы влияние им ни приписывали, такое решение, во всяком случае, передвинуло бы только проблему на другое место, не разрешая ее. Ибо осталось бы необъясненным, почему эти отчаянные положения неизменно повторяются каждый год согласно закону, присущему каждой отдельной стране. Каким образом случается то, что в одном и том же обществе — предполагая, что оно находится в упроченном состоянии,— всегда одинаковое число распавшихся семейств, экономических крахов и т. д.? Это регулярное повторение одних и тех же событий в одном и том же количестве, для одного и того же народа, но очень различных у разных народов было бы необъяснимым, если бы в каждом обществе не существовало определенных течений, увлекающих его членов с определенной силой в коммерческие или промышленные авантюры, в область таких поступг ков, которые способны нарушить спокойствие страны и т. д. Допустить это — значило бы, таким образом, восстановить в почти неизменной форме ту самую гипотезу, которой мы, казалось, сумели избежать. III Постараемся же понять смысл и значение тех терминов, которые мы только что употребили. Обыкновенно, когда говорят о коллективных наклонностях или страстях, то склонны видеть в этих выражениях только метафоры или manieres de parler, не обозначающие собой ничего реального, кроме некоторой средней известного числа индивидуальных состояний. На них не смотрят, как на вещи, как на силы sui generis, которые управляют сознанием частных лиц. Однако в действительности именно такова их природа, что блестяще доказывается статистикой самоубийств. Состав индивидов, образующих известное общество, из года в год меняется, а число самоубийств тем не менее остается тем же до тех пор, пока не изменится само общество. Население Парижа обновляется с необыкновенной быстротой; тем не менее доля Парижа в общем числе самоубийств во Франции остается неизменной. Хотя для того, чтобы наличный состав войск совершенно преобразился, достаточно всего нескольких лет, тем не менее процент самоубийств в армии изменяется для одной и той же нации чрезвычайно медленно. Во всех странах коллективная жизнь в течение года движется согласно одному и тому же режиму; он повышается приблизительно от января до июля, а затем снова понижается. Поэтому, хотя члены различных европейских обществ происходят от самых различных средних типов, тем не менее сезонные и даже месячные изменения числа самоубийств следуют повсюду одинаковому закону. Точно так же, каково бы ни было различие индивидуальных характеров, соотношение между наклонностью к самоубийству у людей, состоящих в браке, и у вдов и вдовцов идентично в самых разнообразных социальных группах, и это потому, что моральное состояние вдовства повсюду находится в одном и том же отношении к моральному состоянию, характерному для брачной жизни. Следовательно, причины, определяющие число добровольных смертей для определенного общества или для известной его части, должны оставаться независимыми от индивидов, так как они обладают одинаковой интенсивностью, каковы бы ни были те субъекты, на которых они оказывают свое воздействие. Могут на это сказать, что данный образ жизни везде одинаковый, везде производит одни и те же результаты. Конечно, это так; но образ жизни — это вещь, которой нельзя пренебрегать, и его постоянство нуждается в объяснении. Если он остается неизменным, в то время как в рядах людей, придерживающихся его, происходят бесконечные изменения, то совершенно невозможно, чтобы он всецело определялся индивидуальными особенностями этих людей. Некоторые считали возможным уклониться от этого вывода, заметив, что сама эта непрерывность есть дело индивидов и что, следовательно, для того чтобы объяснить ее, нет надобности приписывать социальным явлениям своего рода трансцендентность по отношению к индивидуальной жизни. В самом деле, иногда рассуждают так: «Всякое социальное явление — какое-нибудь слово данного языка, религиозный обряд, секрет ремесла, прием искусства, статья закона, правило морали — передается и переходит к индивиду от другого индивида, являющегося его родственником, учителем, другом, соседом, товарищем». Конечно, если бы речь шла только о том, каким образом в общих чертах мысль или чувство передаются из поколения в поколение, каким образом память о нем не теряется при этом, то в этих рамках такое объяснение могло бы быть признано достаточным. Но передача таких фактов, как самоубийство или, говоря общее, как все те поступки, о которых мы получаем сведения посредством моральной статистики, представляет своеобразную особенность, которую нельзя объяснить себе так просто и легко. Эта передача имеет своим объектом не только известный способ действий вообще, но и число тех случаев, в которых применяется этот образ действия. Мы видим, что самоубийства не только совершаются ежегодно, но что, по общему правилу, их ежегодно бывает одинаковое количество. Состояние духа, заставляющее человека решиться на самоубийство, не только просто передается, но—что всего замечательнее — оно передается одинаковому числу индивидов, которые все поставлены в условия, необходимые для того, чтобы это состояние перешло в действие. Как это случается, если налицо имеются только индивиды? Само по себе число не может быть объектом прямой передачи. Современное человечество не могло узнать от предыдущего поколения, каков размер той дани, которую оно должно заплатить самоубийству; и тем не менее, если обстоятельства не меняются, размеры этой дани будут совершенно равны размерам предыдущей. Неужели нужно воображать, что каждый отдельный самоубийца имеет своим руководителем и вдохновителем одну из жертв предыдущего года, которой он является только моральным наследником? Только при этом условии можно допустить, что социальный процент самоубийств может увековечиться путем меж-индивидуалъных традиций. Поэтому, если вся цифра не может быть передана оптом, нужно, чтобы те единицы, из которых она состоит, передавались каждая в отдельности; таким образом, каждый самоубийца должен был бы получить от кого-нибудь из своих предшественников наклонность к самоубийству и каждое самоубийство должно было бы быть как бы эхом предыдущего. Но нет налицо ни одного факта, на основании которого можно было бы допустить существование такой индивидуальной связи между каждым в настоящем году и каким-либо однородным событием в предыдущем. Совершенно исключительное явление, как мы уже указали выше, представляют те случаи, когда одно самоубийство вызывается таким образом другим, одинаковым с ним. И почему же эти рикошеты так правильно повторяются из года в год? Почему факту, порождающему новый, подобный себе факт, нужен целый год, для того чтобы воспроизвести этот последний? Почему, наконец, он воспроизводит только одну-единственную копию? Ведь с точки зрения рассматриваемой гипотезы необходимо, чтобы в среднем каждая модель воспроизведена была только один раз, иначе целое потеряло бы свое постоянство. Таким образом, мы можем прекратить обсуждение этой столь же произвольной, как и бесполезной, гипотезы. Но если отвергнуть ее окончательно, если численное равенство годовых итогов происходит не от того, что каждый частный случай зарождает себе подобный в следующем за ним периоде, то это численное равенство может зависеть только от перманентного воздействия какой-нибудь неличной причины, стоящей выше всех этих частных случаев. Поэтому надо пользоваться терминами с величайшей строгостью. Коллективные наклонности имеют свое особенное бытие; это силы настолько же реальные, насколько реальны силы космические, хотя они и различной природы; они влияют на индивида также извне, хотя это совершается иными путями. Позволительно утверждать, что реальность первых не ниже реальности вторых; это доказывается тем же путем, а именно ознакомлением с постоянством их результатов. Когда мы констатируем, что число смертей лишь очень мало изменяется из года в год, то мы объясняем эту закономерность зависимостью от климата, температуры, состава почвы — словом, известным числом материальных причин, которые, будучи независимыми от индивида, не изменяются и тогда, когда меняются поколения. Следовательно, раз такие моральные акты, как самоубийство, воспроизводятся с единообразием не только не меньшим, но и большим, мы должны допустить, что они зависят от сил, лежащих вне индивидов; и так как эти силы могут быть только моральными, а вне индивида нет другого морального существа, кроме общества, то неизбежно приходится признать, что силы эти социальны. Но каким бы именем их ни называть, важно только признать за ними реальность и считать их совокупностью энергии, которые извне направляют наши поступки точно так же, как физико-химические энергии, действию которых мы подвергаемся. Это не словесные сущности, а реальности sui generis, которые можно измерять, сравнивать по величине, как это делают по отношению к интенсивности электрических токов или источников света. Таким образом, наше основное положение, что социальные факты объективны,— положение, которое мы имели случай установить в нашей другой работе и которое мы считаем принципом социологического метода, находит в моральной статистике, и в особенности в статистике самоубийств, новое и особенно демонстративное доказательство.. Конечно, оно задевает здравый смысл, но каждый раз, как наука открывала людям существование незнакомой им силы, она встречала недоверие с их стороны. Когда надо изменить систему существующих понятий, для того чтобы очистить место новому порядку вещей и создать новые представления, то умы людей, объятые ленью, неизбежно сопротивляются новизне. И тем не менее необходимо прийти к какому-нибудь соглашению. Если социология действительно существует, то предметом ее изучения может быть только неизведанный еще мир, не похожий на те миры, которые исследуются другими науками; но этот новый мир будет ничто, если он не будет представлять собою целой системы реальностей. Но именно потому, что это представление наталкивается на традиционные предрассудки, оно подняло ряд возражений, на которые нам необходимо ответить. Во-первых, оно предполагает, что коллективные мысли и наклонности другого происхождения, чем индивидуальные, и что у первых существуют такие черты, которых нет у вторых. Но как же это возможно, если общество состоит только из индивидов? На это можно ответить, что в живой природе нет ничего такого, чего бы не встречалось в мертвой материи, потому что клеточка состоит исключительно из атомов, которые не живут. Точно так же совершенно верно, что общество не включает в себя никакой другой действующей силы, кроме силы индивидов; и однако, эти индивиды, соединяясь, образуют психическое существо нового типа, которое, таким образом, обладает своим собственным способом думать и чувствовать. Конечно, элементарные свойства, из которых складывается социальный факт, в зародышевом состоянии заключаются в частных умах. Но социальный факт получается из них только тогда, когда они преобразованы путем сочетания, ибо он проявляется исключительно при этом условии. Сочетание само является активным фактором, производящим специфические результаты; и следовательно, оно как таковое есть уже нечто новое. Когда сознания, вместо того чтобы оставаться изолированными одно от другого, группируются и комбинируются, то это знаменует собой некоторую перемену в мире. И вполне естественно, что это изменение в свою очередь производит другие изменения, что этот новый факт порождает другие новые факты, что возникают, наконец, явления, характерные черты которых отсутствуют в элементах, их составляющих. Только одним способом можно оспаривать это положение: допустить, что целое качественно тождественно с совокупностью своих частей, что результат качественно сводим к совокупности породивших его причин; а это привело бы к тому, что пришлось бы отрицать всякое изменение или признать его необъяснимым. Между тем некоторые ученые не остановились перед защитой этого крайнего тезиса; но для его обоснования нашлись только два поистине необычайных аргумента. Говорили, во-первых, что «в силу странной привилегии мы располагаем в социологии интимным познанием как единичного элемента, который есть наше индивидуальное сознание, так и того сложного образования, которым является совокупность отдельных сознаний; во-вторых, утверждали, будто в силу этой двойной интуиции мы можем ясно констатировать, что по удалении всех индивидуумов общество обращается в ничто». Первое утверждение является смелым отрицанием всей современной психологии. В настоящее время все ученые согласны с тем, что психическая жизнь не может быть познана с первого взгляда, что она, наоборот, имеет глубокую подпочву, куда не может проникнуть интимное самонаблюдение и которую мы постигаем только мало-помалу, путем обходных и сложных приемов, аналогичных с теми, которые употребляет наука по отношению к внешнему миру. Таким образом, нельзя сказать, что природа сознания не представляет уже более для нас никаких тайн. Что же касается второго положения, то оно совершенно произвольно. Автор может уверять, что, согласно его личному впечатлению, в обществе нет ничего реального, кроме того, что происходит от индивида, но для поддержки этого утверждения нельзя выдвинуть никаких доказательств, и, следовательно, всякий спор на эту тему невозможен. И как легко в противовес этому чувству было бы выставить другое, противоположное чувство большого числа людей, которые представляют себе общество не как форму, которую самопроизвольно принимает природа индивида, выходя за свои собственные пределы, но как противодействующую ей силу, которая ограничивает индивидов и против которой они направляют свои силы! И наконец, что можно сказать об этой интуиции, посредством которой мы якобы прямо и непосредственно знакомимся не только с элементом, т. е. с индивидом, но и с их соединением, т. е. с обществом? Если действительно достаточно только открыть глаза и быть внимательным, чтобы тотчас же заметить законы социального мира, то социология оказалась бы лишней или по крайней мере очень простой. К несчастью,факты слишком ясно доказывают, как некомпетентно сознание по отношению к этому делу. Никогда оно само по себе, без всякого воздействия извне, не могло бы даже заподозрить той железной закономерности, которая ежегодно и в одном и том же количестве воспроизводит определенное число демографических явлений. И уже само собою разумеется, сознание, предоставленное своим собственным силам, не в состоянии открыть причины этой закономерности. Но, отделяя таким образом социальную жизнь от индивидуальной, мы отнюдь не хотим сказать, что в ней нет психологического элемента. Наоборот, совершенно очевидно, что она по существу своему состоит из представлений; но только коллективные представления обладают совершенно иной природой, чем представления индивидуальные. Мы не видим никакой несообразности в том мнении, что социология есть психология, если только при этом добавить, что социальная психология имеет свои собственные законы, отличающиеся от законов психологии индивидуальной. Мы подтвердим нашу мысль примером, который сделает ее более понятной. Обыкновенно происхождение религии приписывают чувству страха или уважения, которое внушают сознательным существам таинственные и страшные явления. С этой точки зрения религия представляется простым проявлением индивидуальных переживаний и чувств. Но это упрощенное объяснение не имеет ничего общего с фактами. Достаточно отметить, что в животном царстве, где социальная жизнь всегда рудиментарна, религия совершенно неизвестна, что она наблюдается только там, где существует коллективная организация, что она меняется в зависимости от природы общества, чтобы признать, что только объединенные в группу люди мыслят религиозно. Никогда индивид, который знал бы только самого себя и физическую вселенную, не мог бы подняться до мысли о силах, бесконечно превосходящих его и все, что его окружает. Даже те великие естественные силы, с которыми он соприкасается, не могли бы зародить в его душе такого понятия, так как первоначально он отнюдь не знал с такою точностью, как в настоящее время, в какой степени эти силы превосходят его; он думал, наоборот, что он в состоянии располагать ими по своему усмотрению. Только наука показала ему, насколько он ниже этих сил. Та сила, которая так могла заставить его проникнуться чувством уважения и сделалась предметом его поклонения, есть общество; и лишь гипостазированной формой последнего являются боги. Религия — это в конце концов система символов, посредством которых общество сознает самого себя; это образ мышления, присущий только коллективному существу. Таким образом, открывается обширная совокупность умственных состояний, которые не возникли бы, если бы частные сознания не соединились в одну группу, которые вытекают из этого союза и присоединяются к состояниям сознания, порождаемым природой индивида. Можно самым кропотливым образом анализировать эти последние, но никогда не удастся открыть в них ничего такого, что могло бы объяснить, каким образом возникли и развились своеобразные верования и обряды религий, каким образом зародился фетишизм, каким образом выросло из него обожествление сил природы и каким образом это последнее в свою очередь преобразовалось здесь — в отвлеченную религию Иеговы, там — в политеизм греков и римлян и т. д. Но, утверждая разнородность социального и индивидуального, мы хотим сказать, что предыдущие соображения применимы не только к религии, но и к праву, морали, моде, политическим учреждениям, педагогической практике и т. д.— словом, ко всем формам коллективной жизни. Но нам сделано было еще одно возражение, которое может показаться на первый взгляд более важным. Мы признали, что социальные состояния не только качественно отличаются от индивидуальных, но что они в некотором смысле находятся вне самих индивидов. Мы не убоялись даже сопоставить этот внешний характер с тем, который присущ силам физическим. Но, возражали нам, если общество состоит только из индивидов, то как же может быть что-нибудь, лежащее вне их? Если бы это возражение было основательно, то мы пришли бы к неразрешимому противоречию. В самом деле, не надо терять из виду того, что было установлено выше. Так как та горсть людей, которая ежегодно кончает с собой, не образует естественной группы и так как люди эти совершенно не соприкасаются между собою, то постоянство числа самоубийств может зависеть только от некоторой общей причины, которая господствует над людьми и их переживает. Сила, которая собирает в одно целое множество единичных случаев, рассеянных по поверхности земного шара, должна, конечно, находиться вне каждого из них. Если бы действительно оказалось для нее невозможным занять по отношению к ним внещнее положение, то проблема была бы неразрешимой; но эта невозможность— только кажущаяся. Во-первых, это не совсем верно, что общество состоит только из индивидов; в него входят также и материальные элементы, играющие существенную роль в общественной жизни. Часто социальный факт материализируется до такой степени, что становится элементом внешнего мира. Например, определенный архитектурный тип будет явлением социальным; он частью воплощается в домах, в различных зданиях, которые, раз уже они выстроены, становятся самостоятельными реальностями, независимыми от индивидов. То же самое относится к путям сообщения и транспорту, к инструментам и машинам, употребляемым в промышленном мире или в частной жизни и выражающим состояние техники в каждый исторический момент, к письменности и т. д. Социальная жизнь, которая таким образом как бы кристаллизуется и отвердевает на материальных подпорах, тем самым внедряет в мир окружающие нас вещи и начинает воздействовать на нас извне. Пути сообщения, которые построены были раньше нас, придают ходу наших дел определенное направление, позволяя нам сообщаться с той или иной страной. Вкус ребенка формируется, приходя в соприкосновение с памятниками национального вкуса, заветами предыдущих поколений. Иногда даже мы видим, что такие памятники в течение долгих веков подвергаются забвению. Затем, в то время как воздвигшие их нации уже давно погасли, они снова показываются на свет Божий и снова начинают свое существование в среде нового общества. Это и является характерной чертой того очень редкого явления, которое носит название Возрождения. Возрождение означает, что социальная жизнь, после того как она долгое время была как бы упакована и пребывала в скрытом состоянии, вдруг пробуждается, меняет интеллектуальные и моральные точки зрения народов, которые сами не содействовали ее выработке. Конечно, социальная жизнь не могла бы оживиться, если бы живые сознания не были готовы воспринять ее воздействие, но, с другой стороны, эти сознания чувствовали бы и думали совсем иначе, если бы это воздействие не совершилось. То же самое может быть применено и к тем определенным формулам, в которых заключаются догматы веры, или положения права, когда они фиксируются вовне, в какой-нибудь священной форме. Конечно, как бы они ни были хорошо составлены, но они остались бы мертвой буквой, если бы не нашлось никого, кто бы мог проникнуться ими и ввести их в употребление. Но если они не являются самодовлеющими силами, то это не мешает им быть факторами sui generis социальной жизни, так как они обладают способом воздействия, свойственным только им одним. Юридические отношения совсем неодинаковы в тех случаях, когда имеется писаное право, и в тех случаях, когда его нет. Там, где существует выработанный кодекс, юриспруденция более урегулирована, но менее гибка, законодательство более стройно, но и более неподвижно. Оно менее способно приноравливаться к различным частным случаям и оказывает больше сопротивления новаторским попыткам. Материальные формы, в которые оно облекается, нельзя поэтому считать чисто словесными сочетаниями, не имеющими никакого значения; это — действующие реальности, что доказывается теми результатами, которые бы отсутствовали, если бы этих реальностей не существовало. Таким образом, очевидно, что они не только должны лежать вне индивидуального сознания, но что именно это-то внешнее положение и сообщает им их специфические черты. Для них существенно то, что они малодоступны для индивидов и что эти последние лишь с трудом могут приспособлять их к обстоятельствам; в этом же заключается причина того, что они упорно сопротивляются всяким изменениям. Однако несомненно, что все социальное сознание не может сделаться в такой степени внешним и материальным. Вся национальная эстетика не исчерпывается теми произведениями искусства, которые ею вдохновлены; вся мораль не может быть сведена к определенным заповедям — большая ее часть остается неуловимой. Существует еще обширная область коллективной жизни, остающаяся на свободе; существует целая масса социальных потоков, которые направляются то в одну, то в другую сторону, то расходятся, то сталкиваются между собой, перекрещиваются и смешиваются тысячью различных способов, и именно потому, что они находятся в непрерывном движении, они не могут принять никакой объективной формы. Сегодня поток тоски и отчаяния заливает общество; завтра, наоборот, все сердца уносит с собой веяние радостной доверчивости. В течение одного периода все общество увлекается индивидуализмом, но наступает другой период, и преобладающим влиянием начинают пользоваться уже социальные и филантропические настроения; вчера общество увлекалось космополитизмом, сегодня все умы захватывает патриотическое настроение. И весь этот водоворот, эти приливы и отливы приходят и уходят, ничуть не изменяя основных постановлений права и правил морали, застывших в своих священных формах. Ведь и сами эти предписания лишь выражают подчиненную им жизнь, частью которой они являются; они вытекают из нее, но не подавляют ее. В основании всех социальных норм заложены деятельные и живые чувства, которые эти формулы резюмируют, но которых они являются только внешней оболочкой. Они не вызвали бы никакого отклика, если бы не соответствовали конкретным чувствам и эмоциям, распространенным в обществе. Поэтому, если мы приписываем им реальное бытие, мы отнюдь не хотим этим сказать, что вне их мораль лишена всякой реальности. Это значило бы принимать знак за обозначаемую вещь. Без сомнения, знак имеет самостоятельное значение, его нельзя считать бездейственным эпифеноменом; в настоящее время роль, которую он играет в интеллектуальном развитии, хорошо известна. Но все же это — только знак, и ничего больше. Но, хотя непосредственная жизнь слишком подвижна для того, чтобы принять неизменную форму, она тем не менее носит тот же характер, что и ее фиксированные формулами правила, о которых мы только что говорили. Она занимает внешнее положение по отношению к каждому среднему индивиду, взятому отдельно. Вот, например, серьезная общественная опасность вызывает сильный подъем патриотического чувства; из этого вытекает коллективный порыв, в силу которого общество в своей совокупности принимает как бы за аксиому, что все частные интересы, даже такие, которые в обыкновенное время заслуживали бы уважения, должны совершенно стушеваться перед интересом общественным; и принцип этот высказывается не только в виде desideratum, но применяется на деле. Обратите внимание в такую минуту на большинство индивидов. У очень многих из них вы найдете это моральное настроение, но в бесконечно ослабленной степени. Даже во время войны очень редко встречаются примеры таких людей, которые добровольно готовы проявить полное самоотречение. Поэтому из всех частных сознаний, составляющих нацию, нет ни одного, по отношению к которому данное коллективное течение не являлось бы почти всецело внешним; ибо каждое из них содержит только частицу его. То же наблюдение можно сделать по отношению к наиболее основным и стойким моральным чувствам. Например, каждое общество относится с уважением к жизни человека вообще; степень этого уважения имеет определенную величину и может быть измерена относительной строгостью наказаний, налагаемых за убийство. С другой стороны, средний человек все же имеет в себе известную степень этого чувства, но в гораздо меньшей степени и в совершенно другом виде, чем оно существует в обществе. Для того чтобы понять эту разницу, достаточно сравнить то чувство, которое нам лично внушает убийца или самый вид убийства и которое охватывает при тех же обстоятельствах целую толпу. Нам известно, до какой степени возбуждения может дойти толпа, если ничто ее не сдерживает; а это зависит от того, что гнев носит коллективный характер. То же самое различие наблюдается ежеминутно между тем способом, каким общество реагирует на эти преступления, и тем впечатлением, какое они производят на индивидов, т. е. между индивидуальной и социальной формой того чувства, которое эти преступления оскорбляют. Социальное возмущение обладает такой энергией, что оно редко довольствуется другим наказанием, кроме смертной казни. Иначе чувствует каждый из нас, если жертвой преступления является человек, нам незнакомый или безразличный, и если убийца не живет близко от нас и, следовательно, не является для нас личной опасностью; мы, соглашаясь с тем, что поступок справедливо требует наказания, не чувствуем себя достаточно потрясенными, не ощущаем непреодолимой потребности в отмщении. Мы сами не сделаем шага для того, чтобы обнаружить виновного, и даже откажемся выдать его. Дело принимает другой оборот только в том случае, если, как говорится, общественное мнение взволновано данным событием. Тогда мы становимся более требовательными и деятельными. Но тогда именно это общественное мнение говорит нашими устами, мы действуем скорее под давлением коллектива, нежели в качестве индивидов как таковых. Чаще всего расстояние между социальным состоянием и его индивидуальными отголосками даже еще более значительно. В предыдущих случаях коллективное чувство, индивидуализируясь, по крайней мере сохраняло у большинства субъектов достаточную силу, для того чтобы восставать против тех поступков, которые его оскорбляют; ужас, внушаемый пролитием человеческой крови, довольно глубоко вкоренился в наши дни в большинстве человеческих сознаний, чтобы воспрепятствовать терпимому отношению к идее человекоубийства. Но простая кража, или молчаливый обман, или мошенничество без насилия еще далеки от того, чтобы внушить нам то же чувство отвращения. Очень мало людей, которым бы права их ближних внушали чувство уважения и у которых не было бы в зародыше желания обогатиться не вполне честным образом. Это не значит, что воспитание не развивает известного отвращения ко всякому нарушению справедливости. Но какое еще далекое расстояние между этим непосредственным и неустойчивым чувством, всегда готовым идти на компромисс, и тем безусловным клеймом позора, без изъятия и смягчения, которое общество накладывает всегда на виновника кражи во всех ее видах. Что же сказать о сознании других обязанностей, которое еще слабее вкоренилось в душу обыкновенного человека, как, например, то чувство, которое предписывает нам правильно уплачивать свою часть общественных издержек, не обманывать казну, не уклоняться от отбывания воинской повинности, честно выполнять договоры и т. д. Если бы во всех этих пунктах выполнение предписаний морали гарантировалось только колеблющимися чувствами средних индивидов, то предписания эти покоились бы на крайне ненадежной почве. Следовательно, является основной ошибкой смешивать, как это часто случается, коллективный тип данного общества со средним типом индивидов, которые составляют это общество. Средний человек обладает в очень умеренной степени нравственностью. Только наиболее существенные правила этики отпечатываются в его душе с известной силой, но и они далеки от той определенности и того авторитета, которыми они облечены в коллективном типе, т. е. в обществе, взятом в его целом. Это смешение, которое определенно допустил Quetelet, превращает моральный генезис в неразрешимую проблему. В самом деле, раз индивидуальный уровень морали в общем так низок, то каким же образом могла бы возникнуть общественная мораль, превосходящая его, если она выражает собой только среднюю величину индивидуальных нравственных зачатков? Большее не может без чуда образовываться из меньшего. Если общественное сознание есть не что иное, как наиболее распространенное сознание, то оно не может стать выше обыденного уровня. Но откуда же являются тогда все эти повышенные и категорически повелительные предписания, которые общество стремится привить своим членам? Различные религии, а по их примеру и многочисленные философы не без основания полагают, что мораль может быть осуществлена во всей своей полноте только в Боге. Слабый и неполный набросок ее, открываемый в индивидуальном сознании, не может быть рассматриваем как оригинал. Он производит скорее впечатление грубой и неверной репродукции и наводит на мысль, что оригинал должен находиться так или иначе вне индивидов. Вот почему народная фантазия с присущей ей простотой реализует его в Боге. Конечно, наука не может остановиться на этой концепции, которая для нее просто-напросто не существует. Но если отбросить эту концепцию, то не останется другой альтернативы, как оставить вопрос о морали необъяснимым и висящим в воздухе или видеть в морали систему коллективных состояний. Или начало ее лежит вне опытного мира, или она порождается обществом. Она может существовать только в сознании; и если она не существует в сознании индивида, значит, ее может включить в себя только сознание группы. Но тогда необходимо признать, что групповое сознание, отнюдь не будучи смешением сознаний средних индивидов, должно превосходить его во всех отношениях. Наблюдения только подтверждают эту гипотезу. С одной стороны, правильность статистических данных указывает на то, что существуют коллективные наклонности вне сознания индивидов, с другой стороны, на большом количестве выдающихся фактов мы можем непосредственно констатировать этот внешний характер коллектива. К тому же последний не представляет ничего удивительного для того, кто убедился в разнородности индивидуальных и социальных состояний. В самом деле, вторые могут явиться к нам только извне, так как они не вытекают из наших личных предрасположений; происходя от чуждых нам элементов, они выражают нечто совершенно иное, чем мы сами. Конечно, поскольку мы сливаемся с группой и живем ее жизнью, мы не можем избежать ее влияния; но с другой стороны, поскольку мы обладаем индивидуальностью, отличающей нас от нее, мы оказываем ей сопротивление и стремимся уклониться от ее влияния. А так как нет ни одного человека, который не жил бы одновременно этою двойною жизнью, то каждый из нас в одно и то же время проникнут тем и другим стремлением. Нас увлекает социальное чувство, но вместе с тем мы отдаемся настроению, отвечающему нашей личной природе. Остальные члены общества давят на нас, чтобы сдержать наши центробежные стремления, а мы в свою очередь стараемся давить на других, чтобы нейтрализовать их индивидуальные стремления. Таким образом, мы испытываем на себе то же самое давление, которое мы стараемся оказать на других. Возникают две противодействующие друг другу силы. Одна из них вытекает из коллективности и стремится завладеть индивидом, другая проистекает от индивида и враждебна предыдущей. Конечно, первая во многом превосходит вторую, потому что она является сочетанием всех единичных сил, но, так как она встречает на своем пути столько же отпоров, сколько существует отдельных субъектов, она отчасти растрачивается в этой усиленной борьбе и проникает в нас только в ослабленной и обезображенной форме. Когда она очень интенсивна, когда приводящие ее в действие обстоятельства повторяются часто, она может еще достаточно сильно отпечатываться в индивидуальной психике; она возбуждает в ней довольно интенсивные состояния, которые, раз зародившись, функционируют с самопроизвольностью инстинкта; так обстоит дело с наиболее существенными моральными идеями. Но большинство социальных течений или слишком слабы, или соприкасаются с нами слишком отдаленно, для того чтобы пустить в нашем сознании глубокие корни; поэтому воздействие их очень поверхностно. Следовательно, они почти целиком остаются вне нас. Таким образом, для того чтобы вычислить какой-либо элемент коллективного типа, отнюдь не достаточно определить размеры, занимаемые им в индивидуальных сознаниях, и взять среднюю. Правильнее было бы взять их сумму, но и такое измерение будет во многом уступать действительности, так как таким путем можно получить социальное чувство лишь ослабленным настолько, насколько оно потеряло, индивидуализируясь. Только при очень легком отношении к делу можно обвинять нашу концепцию в схоластичности и упрекать ее в том, что она кладет в основание социальных явлений какой-то жизненный принцип нового порядка. Если мы отказываемся допустить, что социальные явления имеют субстратом сознание индивида, мы тем самым приписываем им некоторый другой субстрат. Последний образуется путем комбинирования и сочетания всех индивидуальных сочетаний. Он не имеет в себе ничего субстанциального и онтологического, потому что представляет собой только целое, состоящее из частей, но он столь же реален, как и входящие в состав его элементы, т. к. они не построены совершенно таким же образом, как и он сам; они также сложны. В самом деле, теперь уже известно, что «я» — каждое из этих элементарных сознаний — есть лишь равнодействующая множества безличных сознаний точно так же, как эти элементарные сознания в свою очередь возникают из сочетания бессознательных жизненных единиц, а каждая жизненная единица — из безжизненных частиц. Если психологи и биологи справедливо полагают, что реальность изучаемых ими явлений достаточно обоснована, раз они сведены к комбинациям элементов непосредственно низшего порядка, то почему не может быть того же в социологии? Лишь те могли бы признать недостаточным такое основание, которые не отказались от гипотезы жизненной силы и субстанциальной души. Таким образом, нет ничего странного в нашем положении, которое некоторым кажется прямо скандальным: социальные верования или акты способны существовать независимо от их индивидуальных выражений. Этим, очевидно, мы не хотели сказать, что общество возможно без индивидов,— заподозривание в провозглашении столь явной нелепости нас могло бы и пощадить. Мы разумеем: 1) что группа, образованная из ассоциированных индивидов, есть реальность совершенно иного рода, чем каждый индивид, взятый отдельно, 2) что коллективные состояния существуют в группе, природе которой они обязаны своим происхождением раньше,чем коснутся индивида как такового и сложатся в нем в новую форму чисто внутреннего психического состояния. Этот способ понимания отношений между индивидом и обществом приближается, между прочим, к тому представлению, которое вырабатывается современными зоологами относительно связей, соединяющих индивидов с их видом и родом. Это — очень простая теория, согласно которой вид есть индивид, увековеченный во времени, обобщенный в пространстве и мало-помалу упрочившийся. Правда, эта теория наталкивается на тот факт, что изменения, наблюдаемые у изолированных субъектов, делаются видовыми только в очень редких и притом сомнительных случаях. Отличительные черты расы изменяются у отдельного индивида только тогда, когда они изменяются у всей расы вообще. Значит, эта последняя должна обладать некоторой самостоятельной реальностью, которой определяются различные формы, принимаемые ею у отдельных субъектов, так что ее никак нельзя рассматривать как обобщение этих последних. Конечно, мы не можем считать эту теорию окончательно доказанной. Но для нас достаточно показать, что наша социологическая концепция, не будучи заимствованием из области исследований другого порядка, все же находит себе аналогию в самых позитивных науках. IV Применим эту идею к вопросу о самоубийстве; то решение, которое мы дали ему в начале нашей книги, только выиграет от этого в своей определенности. Не существует морального идеала, который не являлся бы сочетанием—в пропорциях, меняющихся в зависимости от общества,— эгоизма, альтруизма и некоторой аномии. Ибо социальная жизнь предполагает, что индивид обладает в известной степени только ему свойственными качествами, что в то же время по требованию общества он готов от своей индивидуальности отказаться и, наконец, что душа его до некоторой степени открыта для идей прогресса. Вот почему нет народа, где бы одновременно не существовало этих трех различных течений, которые увлекают человека по трем разным и даже противоположным направлениям. Там, где они взаимно умеряют друг друга, моральная жизнь находится в состоянии равновесия, которое защищает индивида от всякой мысли о самоубийстве. Но как только один из них переступит известную степень интенсивности в ущерб другим, он, индивидуализируясь, становится по изложенным выше причинам моментом, предрасполагающим к самоубийству. Чем он сильнее, тем, конечно, больше субъектов, которых он заражает достаточно глубоко, чтобы побудить их к самоубийству, и наоборот. Но самая эта его интенсивность может зависеть только от трех следующих причин: 1) природы индивидов, составляющих обществ, 2) способа, посредством которого они ассоциируются, т. е. природы социальных организаций, и 3) случайных обстоятельств, которые нарушают течение коллективной жизни, не касаясь ее анатомического строения, как-то национальные и экономические кризисы и т. д. Что касается индивидуальных свойств, то они сами по себе могут лишь играть роль, одинаковую для всех индивидов. В самом деле, люди, которые являются только личностями или которые принадлежат только к ничтожному меньшинству, совершенно тонут в массе остальных. Но этого мало: так как они различаются между собой, то они нейтрализуют друг друга и взаимно уничтожаются в той переработке, результатом которой являлся феномен коллективный. Только некоторые самые общие человеческие черты могут иметь здесь некоторое значение; в общем, они почти неизменны; по крайней мере, для того чтобы они могли измениться, недостаточно тех нескольких веков, в течение которых существует нация. Следовательно, социальные условия, влияющие на число самоубийств, являются единственными, в силу которых оно может изменяться, ибо это — единственные изменяющиеся причины. Вот почему число это остается неизменным, поскольку не изменяется само общество. Это постоянство не зависит от того, что состояние духа, порождающее самоубийство, неизвестно в силу какой случайности сконцентрировано в определенном числе частных лиц и передается, тоже неизвестно почему, такому же числу подражателей. Но безличные причины, дающие ему начало и поддерживающие его, остаются неизменными; это значит, что ничто не изменилось— ни способы группировки социальных единиц, ни характер их взаимного согласования. Действия и противодействия, которыми они обмениваются, остаются тождественными, следовательно, не изменяются и вытекающие из них мысли и чувства. Таким образом, лишь чрезвычайно редко случается, если только вообще случается, что одно из подобных течений получает преобладание во всех пунктах общества. Обыкновенно оно достигает более сильной степени лишь в тесных общественных слоях, в которых оно находит для своего развития особенно благоприятные условия; таковыми являются обыкновенно определенные социальные положения, профессии или религиозные верования. Таким образом объясняется двойственный характер самоубийства. Когда этот характер наблюдают в его внешних проявлениях, то обыкновенно усматривают здесь только группу событий, независимых друг от друга, ибо он обнаруживается в отдельных пунктах, не стоящих между собой ни в какой видимой связи. И тем не менее сумма, образовавшаяся из совокупности отдельных случаев, представляет известную индивидуальность и единство, так как социальный процент самоубийств является отличительной чертой каждой коллективной личности. Это обозначает, что если частные группы, где процент этот особенно высок, различны друг от друга и разбросаны самым разнообразным образом на всем протяжении территории, то, несмотря на это, они тесно связаны между собою как части одного целого и как органы одного и того же организма. Состояние, в котором находится каждая из этих групп, зависит от общего состояния общества. Существует интимная связь между размерами влияния, осуществляемого той или другой из этих тенденций, и тем местом, какое она занимает в социальном целом. Альтруизм слабее или сильнее в армии, смотря по тому, насколько сильно проявляется он среди гражданского населения. Интеллектуальный индивидуализм тем более развит и тем чаще приводит к самоубийству в среде протестантов, чем интенсивнее он выражен в остальной нации; вообще все зависит одно от другого. Но если, за исключением сумасшествия, не существует такого индивидуального состояния, которое можно было бы рассматривать как фактор, производящий самоубийство, то, с другой стороны, и коллективное чувство при абсолютном сопротивлении индивида не может проникнуть в него. Предыдущее объяснение может показаться неполным, пока не указано, каким образом в определенной среде, в момент развития производящих вызывающих самоубийства течений, эти последние находят себе достаточное количество доступных их влиянию субъектов. Но, предполагая даже, что это стечение обстоятельств действительно необходимо и что коллективная тенденция не может навязать себя частным лицам, независимо от всякого предрасположения к ней, все-таки приходится признать, что искомая гармония осуществляется сама собой, ибо причины, порождающие социальное течение, оказывают свое воздействие вместе с тем и на всех индивидов и ставят их в условия, благоприятствующие восприятию коллективного чувства. Между этими двумя рядами факторов существует естественное родство по одному уже тому, что они зависят от одной и той же причины, накладывающей на них свою печать; вот почему они соединяются вместе и приспособляются друг к другу. Утонченная цивилизация, дающая начало аномической и эгоистической наклонностям к самоубийству, имеет своим результатом также утонченность нервной системы, делая ее чрезмерно чувствительной. Благодаря этому люди становятся менее способными привязываться к определенному объекту, более нетерпеливыми к ограничениям какой бы то ни было дисциплины, более подверженными бурным раздражениям, а также и преувеличенному упадку духа. Наоборот, грубая и суровая культура, связанная с альтруизмом примитивных людей, развивает в индивидах чувственность, облегчающую самоотречение. Словом, так как в большей своей части индивид является созданием общества, последнее формирует его по своему образу и подобию. У общества не может оказаться недостатка в материале, так как оно само, так сказать, приготовляет этот материал своими собственными руками. Теперь можно яснее представить себе, какую роль играют в генезисе самоубийства индивидуальные факторы. Если в одной и той же моральной среде, т. е. в одном и том же религиозном обществе, в одном и том же корпусе войск или в одной и той же профессии, захвачены наклонностью к самоубийству именно данные индивиды, то это, без сомнения, по крайней мере в большинстве случаев, происходит потому, что умственная организация их по своей природе или в силу обстоятельств оказывает менее сопротивления социальной тенденции к самоубийству. Но если условия могут содействовать частным лицам в том, чтобы эта тенденция в них воплотилась, то все же не от них зависят ни отличительный характер ее, ни ее интенсивность. Число ежегодных самоубийств в данной социальной группе зависит от числа находящихся в ней невропатов. Невропатия является только причиною того, что одни легче подпадают под влияние этой наклонности, чем другие. Вот откуда проистекает та огромная разница, которая наблюдается во взглядах на этот вопрос у клинициста и социолога. Первый наблюдает только частные случаи, оторванные друг от друга; он часто поэтому констатирует, что самоубийца был или неврастеник, или алкоголик, и объясняет совершенный им поступок одним из этих психопатических состояний. С одной стороны, он прав, так как если данный индивид имеет больше шансов лишить себя жизни, чем его соседи, то часто это происходит именно в силу указанных причин. Но не по этим причинам имеются вообще люди, которые убивают себя, а также не потому в течение определенного периода времени в каждом обществе насчитывается определенное число самоубийств. Причина, производящая это явление, неизбежно ускользает от внимания тех, кто наблюдает только индивидов, потому что она лежит вне их. Чтобы открыть ее, надо подняться выше отдельных самоубийств и подметить то, что соединяет их воедино. Нам могут возразить, что если бы не существовало достаточного количества неврастеников, то социальные причины не могли бы произвести всех своих результатов. Но фактически нет такого общества, где бы различные формы нервной дегенерации не приносили в жертву самоубийству большее число кандидатов, чем нужно. Лишь для некоторых из них открывается, если можно так выразиться, вакансия, а именно для тех, кто в силу личных обстоятельств стоит ближе к пессимистическим течениям и вследствие этого способен сильнее пережить на себе их влияние. Но остается разрешить еще один вопрос. Так как ежегодно насчитывается одинаковое число самоубийств, то, очевидно, социальная тенденция к самоубийству не захватывает одновременно всех тех, кого она может и должна захватить. Те индивиды, кто обречен стать ее жертвой на следующий год, в настоящее время уже существуют; большинство из них принимает участие в коллективной жизни и, следовательно, подчиняется ее влиянию. Чем же объясняется то обстоятельство, что влияние это их временно щадит? Легко понятно, конечно, что один год необходим для того, чтобы это влияние могло целиком проявить свое воздействие на индивида. Так как условия социальной жизни не одни и те же в разные времена года, их воздействие также меняет свою интенсивность и свое направление в зависимости от времен года. Только тогда, когда год свершит свой круг, можно сказать, что уже осуществились все те комбинации и условия, в зависимости от которых изменяется влияние социальной среды. Но так как, согласно нашему допущению, следующий год является только повторением предыдущего и приводит все к тем же комбинациям, то почему же одного предыдущего года не было достаточно? Почему, выражаясь ходячим термином, общество платит свою дань только в последовательные сроки? Объяснением этого замедления может, по нашему мнению, служить тот способ, которым время оказывает влияние на наклонность к самоубийству. Это вспомогательный, но очень важный фактор. В самом деле, мы знаем, что наклонность эта непрерывно растет начиная от молодых лет вплоть до зрелого возраста и что она часто становится в конце жизни в 10 раз сильнее, чем была в ее начале. Это значит, что коллективная сила, толкающая человека на самоубийство, только постепенно, только мало-помалу проникает в его существо. При прочих равных условиях человек становится тем восприимчивее к ней, чем старше его возраст; и это, конечно, потому, что надо пережить повторные испытания, чтобы почувствовать всю пустоту эгоистического существования или всю суету тщеславия и безразличных претензий. Вот почему самоубийцы выполняют свое предназначение не иначе как последовательными рядами поколений. ГЛАВА II САМОУБИЙСТВО В РЯДУ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙТак как самоубийство по самому своему существу носит социальный характер, то следует рассмотреть, какое место занимает оно среди других социальных явлений. Первым и наиболее важным вопросом, который при этом возникает, является вопрос: нужно ли отнести самоубийство к деяниям, дозволенным моралью, или к актам, ею запрещенным? Следует ли видеть в самоубийстве своего рода преступление? Известно, сколько споров во все времена вызывал этот вопрос. Обыкновенно, пытаясь разрешить его, сначала давали формулировку данного представления о моральном идеале, а затем уже спрашивали, противоречит или не противоречит логически самоубийство этому идеалу. Дедукция, не подвергающаяся проверке, всегда внушает подозрение, и тем более в данном случае, где ее отправным пунктом является чисто индивидуальное настроение, ибо каждый представляет себе по-своему тот моральный идеал, который принимается за аксиому. Вместо того чтобы поступать таким образом, мы рассмотрим сначала исторически, какую моральную оценку в действительности давали самоубийству различные народы, а затем попытаемся определить, на чем была основана эта оценка. После этого нам останется только посмотреть, имеют ли, а если имеют, то в какой мере, основание подобные оценки в условиях современного общества. I Самоубийство было формально запрещено в христианском обществе с самого его основания..Еще в 452 г. Арлский собор заявил, что самоубийство — преступление и что- оно есть не что иное, как результат дьявольской злобы. Но только в следующем веке, в 563 г., на Пражском соборе это запрещение получило карательную санкцию. Там было постановлено, что самоубийцам не будет оказываться «честь поминовения во время святой службы и что пение псалмов не должно сопровождать их тело до могилы». Гражданское законодательство под влиянием канонического права присоединило к религиозным карам и земные наказания. Одна глава из постановлений Людовика Св. посвящена специально этому вопросу; труп самоубийцы судился формальным порядком теми властями, ведению которых подлежали дела об убийствах; имущество покойного не переходило к обычным наследникам, а отдавалось барону. Во многих случаях обычное право не удовлетворялось конфискацией, но предписывало кроме этого различные наказания. «В Бордо труп вешали за ноги; в Аббевиле его тащили в плетенке по улицам; в Лилле труп мужчины, протащив на вилах, вешали, а труп женщины сжигали». Даже сумасшествие не всегда считалось смягчающим вину обстоятельством. Уголовное уложение, обнародованное Людовиком XIV в 1670 г., кодифицировало эти обычаи без особых смягчений. Произносился формальный приговор по закону abperpetnam rei memoriani, труп тащили на плетенке лицом к земле по улицам и переулкам, а затем вешали или бросали на живодерню. Имущество конфисковалось. Дворяне лишались звания, их леса вырубались, замки разрушались, гербы ломались. Имеется указ парижского парламента от 31 января 1749 г., изданный в силу такого закона. В противоположность этому революция 1789 г. уничтожила все эти репрессивные меры и вычеркнула самоубийства из списка преступлений против закона. Но все религиозные учения, к которым принадлежат французы, продолжают запрещать самоубийство и налагать за него наказания; общее моральное сознание также относится к нему отрицательно. Оно все еще внушает народному сознанию какое-то отвращение, распространяющееся и на то место, где самоубийца привел в исполнение свое решение, и на тех лиц, которые касались его трупа. Оно составляет моральный порок, хотя общественное мнение, по-видимому, имеет тенденцию сделаться в этом отношении более снисходительным, чем раньше. К тому же самоубийство сохранило от старых времен в умах общества кое-какой налет преступности. Большей частью законодательство рассматривает сообщника самоубийцы, как убийцу. Это не могло бы иметь места, если бы на самоубийство смотрели как на деяние, безразличное в нравственном отношении. Подобное же законодательство встречается у всех христианских народов, и оно почти повсюду осталось более строгим, чем во Франции. В Англии еще в X в. король Эдуард в одном из изданных им «Канонов» приравнивал самоубийцу к ворам, разбойникам и преступникам всякого рода. До 1823 г. существовал обычай тащить труп самоубийцы по улицам, проткнув его колом, и хоронить его при большой дороге без всякой религиозной церемонии. Да и теперь их хоронят отдельно от прочих. Самоубийца объявлялся отступником (lelo de se), а его имущество отбиралось государством. И только в 1870 г. был отменен этот закон одновременно со всеми другими видами конфискаций за отступничество. Правда, слишком преувеличенное наказание уже давно сделало закон неприложимым; суд присяжных обходил его, заявляя по большей части, что самоубийца действовал в момент сумасшествия и, следовательно, является невменяемым. Но самый акт все-таки квалифицируется как преступление; каждый раз, как он совершается, он бывает предметом формального судебного следствия и суда, и в принципе покушение на него наказуемо. По словам Ферри, в одной только Англии в 1889 г. было якобы еще 106 процессов по делам о самоубийстве и 84 осуждения. Еще в большей степени это относится к соучастию. В Цюрихе, рассказывает Мишлэ, труп некогда подвергался ужасному обращению. Если человек покончил с собой кинжалом, то около его головы вбивали кусок дерева, в который вонзали нож; утопленника погребали в пяти шагах от воды, в песке. В Пруссии до уголовного уложения 1871 г. погребение должно было происходить без всякой торжественности и без религиозных церемоний. Новое германское уголовное уложение еще наказывает соучастие тремя годами тюремного заключения. В Австрии старые канонические правила остались почти неприкосновенными. Русское право более строго. Если окажется, что, самоубийца действовал не под влиянием хронического , или временного умопомрачения, его завещание рассматривается как не имеющее никакого значения, точно так же как и все распоряжения, сделанные им на случай смерти. Самоубийце отказывают в христианском погребении. Покушение на самоубийство наказывается церковным покаянием, налагаемым духовными властями. Наконец, тот, кто подстрекает другого к самоубийству или помогает каким-нибудь образом исполнению его решения, снабжая, например, его необходимыми орудиями, рассматривается как соучастник в заранее обдуманном убийстве. Испанское уложение кроме религиозных и моральных кар предписывает конфискацию имущества и наказывает всякое пособничество. Наконец, уголовное уложение нью-йоркского штата, хотя и изданное очень недавно (1881 г.), квалифицирует самоубийство как преступление. Правда, несмотря на подобную квалификацию, закон отказывается наказывать самоубийцу по практическим соображениям, ибо наказание не может настигнуть истинного виновника. Но покушение может повлечь за собой присуждение или к тюремному наказанию, могущему продолжаться до 20 лет, или к штрафу до 200 долларов, или к тому и другому зараз. Простой совет прибегнуть к самоубийству или помощь в его выполнении приравниваются к пособничеству в убийстве. Магометане не менее энергично запрещают самоубийство. «Человек, говорит Магомет, умирает лишь по воле Бога, согласно книге, в которой отмечен срок его жизни. Когда придет конец, он не сумеет ни замедлить и ни ускорить его ни на одно мгновение». «Мы постановили, чтобы смерть поражала вас друг за другом, и никто не может предупредить назначенный срок». «В самом деле, ничто не может больше противоречить общему духу магометанской цивилизации, чем самоубийство; ибо наивысшей добродетелью является здесь полное подчинение воле Бога, безропотная покорность, позволяющая переносить все с терпением». Самоубийство, акт неподчинения и бунта, могло рассматриваться лишь как тяжкий грех против основного долга. Если от современного общества мы перейдем к его историческим предшественникам, т. е. к греко-латинским общинам, то там мы найдем также законодательство, касающееся самоубийства; но оно исходило совсем из другого принципа. Самоубийство рассматривалось как незаконное лишь в том случае, когда оно не было разрешено государством. Так, в Афинах человеку, покончившему с собой (ибо он совершил проступок перед общиной), отказывали в почестях обычного погребения; кроме того, у трупа отрезали руку и погребали ее отдельно. То же самое с незначительными изменениями проделывалось в Фивах и на Кипре. В Спарте закон применялся настолько строго, что наказанию подвергли Аристодема за то, что он стремился найти и нашел смерть в Платейской битве. Но эти наказания применялись лишь в том случае, когда индивидуум, убивая себя, не спрашивал предварительно разрешения у соответствующей власти. В Афинах, если перед самоубийством испрашивалось у Сената разрешение со ссылкой на причины, сделавшие для самоубийцы жизнь невыносимой, и если просьба встречала удовлетворение, самоубийство рассматривалось как законный акт. Либаний передает нам некоторые правила, применявшиеся в этом случае; он не сообщает, к какой эпохе они относятся, но они действительно имели силу в Афинах; он отзывается об этих законах с очень большой похвалой и утверждает, что они приводили к хорошим результатам. Законы эти формулировались так: «Пусть тот, кто не хочет больше жить, изложит свои основания Сенату и, получивши разрешение, покидает жизнь. Если жизнь тебе претит— умирай; если ты обижен судьбой — пей цикуту. Если ты сломлен горем — оставляй жизнь. Пусть несчастный расскажет про свои горести, пусть власти дадут ему лекарство, и его беде наступит конец». Подобный же закон мы находим на Хиосе. Он был перенесен в Марсель греческими колонистами, основавшими этот город. У властей был запас яда, из которого они снабжали необходимыми количествами всех тех, кто после предъявления Совету Шестисот причин, толкающих их на самоубийство, получал его разрешение. У нас гораздо меньше сведений относительно постановлений древнего римского права: отрывки законов Двенадцати Таблиц, дошедших до нас, не упоминают о самоубийстве. Но так как эти законы были под сильным влиянием греческого законодательства, то весьма возможно, что и в них содержались аналогичные постановления. Во всяком случае Сервий в своем комментарии к «Энеиде» сообщает нам, что, согласно жреческим книгам, покончивший жизнь повешением лишается погребения. Статуты одного религиозного братства в Ланувие требовали такого же наказания. По словам летописца Кассия Термина, цитированным Сервием, Тарквиний Гордый якобы приказал для борьбы с эпидемией самоубийств распинать трупы самоубийц и оставлять их на растерзание диким зверям и птицам. Обычая не хоронить самоубийц, по-видимому, держались крепко, по крайней мере в принципе, ибо в «Дигестах» читаем: Non solent autem lugeri suspendiosi пес qui manus sibi intulerunt, поп tacdio vitae, sed mala conseientia*. Но, по свидетельству одного текста из Квинтилиана, и в Риме до довольно поздней эпохи существовали установления, аналогичные тем, которые мы только что видели в Греции, и предназначенные для смягчения строгости предшествовавших им узаконений. Гражданин, решивший прибегнуть к самоубийству, должен был представить доводы о необходимости этого шага Сенату, постановлявшему, заслуживают ли эти доводы внимания, и определявшему даже способ самоубийства. Что подобного рода практика действительно существовала в Риме,— на это указывают некоторые пережитки, уцелевшие до императорской эпохи в армии. Солдат, покушавшийся на самоубийство с целью таким образом избавиться от службы, предавался смертной казни; но если он мог доказать, что действовал под влиянием какой-либо уважительной причины, его просто исключали из армии. Если, наконец, его поступок был обставлен упреками совести по поводу какого-нибудь дисциплинарного прегрешения, его завещание признавалось не имеющим никакого значения, а имущество отбиралось в казну. Впрочем, нет никакого сомнения в том, что в Риме в моральной и юридической оценке самоубийства все время преобладающую роль играло рассмотрение мотивов, повлекших за собой этот акт. Отсюда возникло и правило: Et merito, si sine causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim sibi поп pepereit, multo minus aliis parcel**. * He следует также погребать
повесившихся и наложивших на себя руки не вследствие невыносимости жизни, но
вследствие злой воли. ** И если без уважительной причины наложил на себя руку, должен понести заслуженное наказание: ибо кто не пощадил себя, еще менее будет щадить других. Общественное сознание, в целом и общем относясь отрицательно к самоубийству, сохраняло за собой право разрешать его в известных случаях. Подобный принцип очень родствен основной мысли установлений, о которых говорит Квинтилиан; и он настолько был тесно связан со всей римской регламентацией самоубийства, что удержался вплоть до императорской эпохи. Только с течением времени увеличился список поводов, дающих право на прощение. И в конце концов осталась лишь одна только causa inyusta — желание ускользнуть от последствий судебного приговора. Но и тут был такой период, когда, по-видимому, закон, исключавший возможность прощения в этом случае, оставался без применения. Если от античной общины спуститься к первобытным народам, среди которых процветает самоубийство, вытекающее из альтруистических побуждений, то там будет очень трудно найти что-нибудь определенное в области обычного законодательства, относящегося к этому предмету. Однако снисходительность, с которой там встречается самоубийство, позволяет думать, что оно не запрещено законом. Возможно, впрочем, что оно пользуется терпимостью не во всех случаях. Но как бы там ни было, остается несомненным, что из всех обществ, перешагнувших через эту первичную стадию развития, мы не знаем ни одного, в котором бы личности предоставлялось без всяких оговорок право кончать с собой. Правда, в Греции, как и в Италии, был период, когда древние узаконения, относящиеся к самоубийству, вышли почти совершенно из употребления. Но это имело место только в эпоху упадка самих античных общин. Поэтому нельзя ссылаться на подобную запоздалую терпимость как на пример, достойный подражания: она, очевидно, тесно связана с тяжелыми потрясениями, переживавшимися обществом в ту эпоху. Это было симптомом агонии. Подобная всеобщность отрицательного отношения к самоубийству, если не обращать внимания на случаи регресса, уже сама по себе является поучительным фактом, способным внушить сомнение слишком снисходительным моралистам. Автору, который осмелился бы в этом вопросе во имя какой-нибудь системы восстать против морального сознания всего человечества, нужно было бы обладать особым доверием к могуществу своей логики; или, если он, считая это отрицательное отношение обоснованным для прошлого, требует его отмены лишь для настоящего времени, он должен был бы раньше всего доказать, что в новейшие времена произошло какое-то глубокое изменение в основных условиях коллективной жизни. Но из изложенного выше вытекает еще один более знаменательный вывод, исключающий мысль о возможности подобного доказательства. Если оставить в стороне различие в деталях репрессивных мер, принимавшихся разными народами, то можно увидеть, что регламентация самоубийства прошла через две главные фазы. В первой — личности запрещено кончать с собой самовольно, но государство может выдать на это свое разрешение. Деяние становится безнравственным лишь в том случае, когда его совершают отдельные лица на свой страх, без участия органов коллективной жизни. При известных обстоятельствах общество как бы уступает и соглашается разрешить то, что принципиально оно осуждает. Во втором периоде— осуждение носит абсолютный характер и не допускает никаких исключений. Возможность распоряжения человеческой жизнью, за исключением смерти как возмездия за преступление, отнимается даже не только у заинтересованного субъекта, но даже и у общества. Этого права отныне лишены и коллективная, и индивидуальная воля. Самоубийство рассматривается как безнравственное деяние по самой своей сущности, само по себе, вне зависимости от того, кто является его участником. Таким образом, по мере развития прогресса отрицательное отношение не только не исчезает, но делается все более радикальным. Если же в настоящее время общественное сознание, по-видимому, снисходительно относится к самоубийству, то это колебание должно вытекать из временных случайных причин, ибо совершенно невероятно, чтобы моральная эволюция, шедшая в течение веков в одном и том же направлении, могла пойти в этом вопросе назад. И в самом деле, идеи, из которых вытекла эта эволюция, никогда не теряют своей силы. Некоторые утверждают, что самоубийство заслуживает наказания потому, что человек, кончая с собой, уклоняется от исполнения своих обязанностей по отношению к обществу. Но если исходить только из этого соображения, то следовало бы, подобно грекам, предоставить обществу организовать по его усмотрению самозащиту, действующую исключительно в его интересах. Но мы отказывали ему в праве на это именно потому, что не смотрим На самоубийцу просто как на несостоятельного должника, кредитором которого является общество. Ведь кредитор может всегда простить долг, на получение которого он имеет право. К тому же, если бы осуждение, встречающее самоубийство, не имело других источников, оно должно было бы быть тем строже, чем сильнее личность подчинена государству; следовательно, оно достигало бы своего апогея в известном обществе. Однако, совершенно наоборот, оно развивается все больше по мере того, как растут права личности по отношению к государству. И если оно приняло такой строгий и всеобщий характер в христианском обществе, то причину этого изменения следует искать не в представлении этих народов о значении государства, а в новом понятии о человеческой личности. Она стала в их глазах святыней и даже святыней по преимуществу, на которую никто не смеет посягать. Без сомнения, уже в античной общине личность не настолько принижена, как у первобытных народов. За ней уже признается социальная ценность, но эта ценность рассматривается исключительно как достояние государства. Община поэтому могла свободно распоряжаться личностью, лишая в то же время личность права распоряжения самой собой. Но теперь личности придают такое достоинство, которое ставит ее выше самой себя и выше общества. Пока она не пала и не потеряла благодаря своему поведению права называться человеком, она для нас является, так сказать, частицей той высшей природы sui generis, которой все религии наделяют своих богов и которая ставит их вне посягательств со стороны смертных. Личность получила религиозный оттенок; человек стал богом для людей. И поэтому всякое покушение на личность кажется нам оскорблением святыни. Чья бы рука ни наносила удар, он производит на нас отталкивающее впечатление только потому, что он посягает на то священное, что заключается в нас и что мы должны уважать и в себе, и в других людях. Итак, самоубийство осуждается потому, что оно противоречит культу человеческой личности, на котором покоится вся наша мораль. Это соображение подтверждается тем обстоятельством, что мы совершенно иначе смотрим на самоубийство, чем народы древности. Некогда в нем видели только гражданский поступок по отношению к государству; религия же относилась к нему более или менее индифферентно. Напротив, для нас оно стало по самому своему существу религиозным актом. Его осудили церковные соборы, а светская власть, прибегая к мерам наказания, только следовала и подражала церковной. Так как в нас есть бессмертная душа, частица божества, то мы должны быть священны для самих себя. Так как мы носим в себе божеское начало, то мы и не можем быть в полной власти смертных существ. Но если таково основание, по которому самоубийство причисляли к недозволенным деяниям, то, быть может, теперь это осуждение потеряло свою ценность? Ведь на самом деле научная критика не придает ни малейшего значения подобным мистическим представлениям и не допускает никаких сверхчеловеческих начал в человеке. И, рассуждая таким именно образом, Ферри в его Omicidio-Suicidio пришел к заключению, что всякое осуждение самоубийства является пережитком прошлого, которому суждено исчезнуть. Считая абсурдом с рационалистической точки зрения положение о том, что человек может иметь какую-нибудь цель вне самого себя, он умозаключает отсюда, что мы всегда обладаем свободой отказаться от выгод совместной жизни, отказываясь от существования. Право на жизнь, по его мнению, логически приводит нас к праву на смерть. Но подобная аргументация слишком быстро умозаключает от формы к существу вопроса, от словесного выражения нашего чувства к самому чувству. Без сомнения, взятые сами по себе и в их абстрактном виде, религиозные символы, посредством которых мы выражаем уважение, внушаемое нам человеческой личностью, не соответствуют ничему реальному. И это очень легко доказать. Но из этого вовсе не следует, что самое-то уважение ровно ни на чем не основано. То обстоятельство, что это уважение играет главную роль в нашем праве и в нашей морали, должно, напротив, предостеречь нас от подобного толкования. Поэтому, вместо того чтобы буквально понимать это выражение, мы исследуем его в его сущности, посмотрим, как оно возникало, и увидим, что если вульгарная формулировка его топорна, то это не мешает ему иметь объективную ценность. В самом деле, своего рода трансцендентность, приписываемая нами человеческой личности, не представляет собой ничего специфически ей присущего. Ее встречаем мы и в других случаях. Она — лишь отпечаток, который оставляют на предметах коллективные чувства, достигшие известной силы. И именно потому, что эти чувства исходят из коллективности, и те цели, к которым благодаря им направляется наша деятельность, могут носить лишь коллективный характер. А общество имеет свои потребности, не разлагаемые на наши индивидуальные потребности. Действия, внушаемые нам коллективными чувствами, не следуют поэтому нашим личным наклонностям: они ставят целью не наш собственный интерес, а состоят по большей части из лишений и жертв. Когда я пощусь, я умерщвляю свою плоть, желая сделать приятное Богу; когда из уважения к какой-нибудь традиции, смысл и значение которой я по большей части не знаю, я налагаю на себя какое-нибудь стеснение, когда я плачу налоги, когда я отдаю мой труд и жизнь государству, я отрекаюсь от части самого себя; и по тому сопротивлению, которое оказывает наш эгоизм подобным актам самоотречения, мы легко замечаем, что они требуются от нас какой-то высшей властью, которой мы подчинены. И даже когда мы с радостью идем навстречу ее приказаниям, у нас бывает сознание, что наше поведение определяется чувством подчинения чему-то более великому, чем мы сами. И как бы по внешности ни добровольно подчинялись мы голосу, диктующему нам это самоотречение, мы прекрасно сознаем, что этот голос говорит нам в повелительном тоне, отличающемся от голоса инстинкта. Поэтому, хотя он и раздается внутри нашего сознания, мы не можем, не противореча самим себе, смотреть на него, как на наше собственное побуждение. Но мы его отчуждаем от себя так же, как делаем это с нашими ощущениями, мы проецируем его вовне, переносим его на какое-то существо, находящееся, по нашему представлению, вне нас и выше нас, так как оно отдает нам приказания, а мы повинуемся его повелениям. Естественно, что все, что, как нам кажется, имеет то же происхождение, носит такой же характер. И поэтому мы были принуждены вообразить какой-то мир, выше земного мира, и населить его существами иного рода. Таково происхождение всех идей о трансцендентном, легших в основу религиозных и моральных учений, ибо иным способом нельзя объяснить моральных обязательств. Конечно, конкретная формулировка, в какую мы облекаем обыкновенно эти идеи, не имеет никакой научной ценности. Постулируем ли мы в виде основы какое-нибудь особое личное существо или какую-нибудь абстрактную силу, которую мы в смутной форме олицетворяем под именем морального идеала,— во всяком случае все это — метафоры, не отражающие вполне точно реальных фактов. Но процесс, который отражают эти идеи, все-таки остается реальным. Остается несомненным, что во всех этих случаях причиной, обусловливающей наши действия, является сила, стоящая выше нас, а именно общество, и что внушенные ею нам цели пользуются настоящей моральной гегемонией. А если это так, то все возражения, которые можно привести против обычных представлений, которыми люди выражают чувствуемое ими подчинение высшей силе, не могут уменьшить реальности этого факта. Подобная критика носит поверхностный характер и не касается сути вопроса. Поэтому если можно утверждать, что возведение на пьедестал человеческой личности составляет одну из целей, которые преследует и должно преследовать современное общество, то этим самым оправдываются и все вытекающие из этого принципа моральные нормы, какова бы ни была ценность тех приемов, какими их оправдывают обыкновенно. Если доводы, которыми довольствуется толпа, не выдерживают критики, достаточно изложить их другим языком для того, чтобы придать им все их значение. Действительно, эта цель не только стоит в ряду тех, которые ставят себе современные общества; но закон истории состоит в том, что последние стремятся мало-помалу избавиться от всякой другой цели. Вначале общество было всем, личность — ничем. Вследствие этого наиболее интенсивными социальными чувствами были те, которые привязывали личность к коллективности: последняя являлась самодовлеющею целью для самой себя. Человек считался простым орудием в ее руках; от нее, казалось, получал он все свои права и по отношению к ней не имел никаких прав, потому что он был ничто вне ее. Но мало-помалу отношения изменялись. По мере того как общества становились все более многолюдными и сплоченными, они делались все сложнее, возникало разделение труда, умножались индивидуальные различия, и уже приближалось время, когда между членами одной и той же группы не остается ничего общего, кроме того, что все они — люди. При этих условиях общественное чувство неизбежно направляется со всей своей силой на тот единственный предмет, который еще остается в его распоряжении и которому оно сообщает поэтому несравненную ценность. Так как человеческая личность является единственным предметом, который может одушевить все сердца, так как возвеличивание личности является единственною целью, которую можно преследовать коллективно, то она не может не приобрести в глазах всех исключительной важности. Она поднимается, таким образом, выше всех человеческих целей и получает религиозный характер. Этот культ человека представляет собой нечто совершенно иное, чем тот эгоистический индивидуализм, о котором мы говорили выше и который ведет к самоубийству. Не отрывая личностей от общества и от сверхиндивидуальных целей, этот культ объединяет их на одной мысли и делает из них служителей одного и того же дела. Ибо тот человек, который становится, таким образом, предметом общественной любви и почитания, не есть та конкретная, эмпирическая личность, каковой является каждый из нас; это — человек вообще, идеальное человечество, как его понимает каждый народ в каждый момент своей истории. Никто из нас не воплощает его полностью, хотя никто из нас и не чужд ему совершенно. Дело идет ведь не о том, чтобы сосредоточить каждую отдельную личность на самой себе и на ее личных интересах, но о том, чтобы подчинить ее всеобщим интересам человеческого рода. Такая цель выводит ее за ее пределы; безличная и беспристрастная, она парит над всеми частными личностями; как и всякий идеал, она может быть понимаема только как нечто высшее и господствующее над реальным. Она господствует даже над обществами, потому что она есть та цель, на которую направлена всякая социальная деятельность. Вот почему общество уже не имеет права распоряжаться ею. Общества, признавая за собою свое право на существование, становятся от личности в зависимость и теряют право на ее уничтожение; и еще с большим основанием теряют они право разрешать людям уничтожать самих себя. Наше достоинство, как моральных существ, перестает быть собственностью общины; но в силу этого оно не становится еще нашей собственностью — мы нисколько не приобретаем права делать с ним, что нам угодно. Откуда, в самом деле, могли бы мы получить это право, когда общество — это существо, высшее, чем мы,— само его не имеет? При этих условиях самоубийство необходимо причисляется к поступкам безнравственным; ибо оно, по своему основному принципу, отрицает эту религию человечества. Убивая себя, человек наносит, говорят нам, вред только самому себе, и обществу незачем вмешиваться сюда, согласно древней аксиоме: Volenti non fit inyuria. Это — заблуждение. Общество оскорблено, потому что оскорблено чувство, на котором основываются в настоящее время его наиболее почитаемые моральные аксиомы и которое служит почти единственной связью между его членами; это чувство было бы подорвано, если бы такое оскорбление могло совершиться беспрепятственно. В самом деле, каким образом могло бы оно сохранить малейший авторитет, если бы, при его оскорблении, моральное сознание не протестовало? С того момента, как человеческая личность признается и должна быть признана святыней, которой не может произвольно распоряжаться ни индивид, ни группа, всякое покушение на нее должно быть запрещено. Неважно, что преступник и жертва соединяются при этом в одном лице: социальное зло, следующее из акта, не исчезает только потому, что преступник причинил страдание только себе. Если факт насильственного прекращения человеческой жизни сам по себе всегда возмущает нас, как оскорбление святыни, то мы не можем терпеть его ни в каком случае. Уступив здесь, общественное чувство скоро потеряло бы свою силу. Мы не хотим этим сказать, что следует вернуться к тем диким мерам, которые применялись в предыдущие века к самоубийцам. Они были установлены в эпоху, когда под влиянием преходящих условий всякая карательная система проводилась с преувеличенной жестокостью. Но следует соблюсти принцип, что самоубийство как таковое должно быть осуждено. Остается исследовать, какими внешними признаками может выражаться это осуждение. Достаточно ли одних моральных санкций или нужны еще и юридические, и какие именно? Этот практический вопрос и рассматривается в следующей главе. II Чтобы точнее определить степень безнравственности самоубийства, мы рассмотрим предварительно, в каких отношениях оно стоит к другим безнравственным действиям, именно к преступлениям и проступкам. По Lacassagne, существует обратное отношение между статистикой преступлений против собственности (квалифицированные кражи, поджоги, злостные банкротства и т. п.). Это положение поддерживается от его имени одним из его учеников, доктором Chaussinand, в его Contribution a I'etude de la statistique criminelle. Но доказательства этого положения совершенно отсутствуют. Согласно их мнению, достаточно сравнить две соответственные кривые, чтобы установить их изменения в обратном направлении друг к другу. В действительное ги же нет никакой возможности заметить между ними никакого отношения, ни прямого, ни обратного. Без сомнения, начиная с 1854 г. преступления против собственности уменьшаются в количестве, а число самоубийств возрастает. Но это понижение отчасти фиктивно; оно происходит просто оттого, что начиная с этого времени суды ввели обыкновение изменять квалификацию известных преступлений, чтобы изымать их из ведения судебных палат (cours d'acsises), которым они были раньше подсудны, и передавать их в исправительные суды (tribunaux correctionnels). Вследствие этого известное число дел исчезло из рубрики преступлений, но только затем, чтобы перейти в рубрику проступков; это истолкование распространилось главным образом на преступления против собственности и теперь получило силу закона. И если в настоящее время статистика показывает их уменьшение, то можно думать, что оно обязано этим исключительно способу подсчета. Но если бы это понижение и было реально, все-таки из него нельзя было бы делать никаких заключений; потому что, если начиная с 1854 г. обе кривые изменяются в обратном направлении, то с 1826 по 1854 г. кривая преступлений против собственности или подымается одновременно с кривой самоубийств, хотя и не так быстро, или же остается на одной высоте. С 1831 по 1835 г. ежегодно насчитывалось в среднем 5095 осужденных; это число увеличивается в следующем периоде до 5732, оно достигает еще 4918 в 1841 — 1845 гг., 4992 — в 1846—1850 гг., понижаясь лишь на 2% против 1830 г. Кроме того, общий вид обеих кривых исключает всякую идею об их сближении. Кривая преступлений против собственности чрезвычайно неправильна; она делает резкие скачки от одного года к другому; ее движение, причудливое на вид, очевидно, зависит от множества случайных условий. Наоборот, кривая самоубийств поднимается правильно и равномерно; за редкими исключениями, в ней не замечается ни резких подъемов, ни внезапных падений. Подъем постоянен и прогрессивен. Между двумя явлениями, развитие которых так мало поддается сравнению, нельзя предположить существования какой бы то ни было связи. Г. Lacassagne кажется, остался одиноким в своем мнении. Иначе обстоит дело с другой теорией, по которой самоубийство стоит в связи с другим рядом преступлений, именно с преступлениями против личности, и особенно с убийствами. Эта теория насчитывает многочисленных приверженцев и заслуживает серьезного исследования. Начиная с 1883 г. Терри отмечает, что преступления против личности вдвое многочисленнее в департаментах Юга, чем в департаментах Севера, между тем как по отношению к самоубийствам замечается обратное. Позднее Despine вычислил, что в 14 департаментах, где кровавые преступления случаются чаще всего, на 1 млн жителей приходится всего 30 самоубийств, тогда как это число возрастает до 82 в 14 других департаментах, где те же преступления гораздо реже. Тот же автор прибавляет, что в департаменте Сены на 100 приговоров насчитывается только 17 преступлений против личности, а средняя самоубийств достигает 427 на 1 млн, тогда как на Корсике процент первых достигает 83, а вторых случается всего лишь 18 на 1 млн жителей. Тем не менее эти заключения оставались одиночными, пока ими не воспользовалась итальянская криминологическая школа. Ферри и Морселли, в особенности, положили их в основу целой теории. По ним, антагонизм между самоубийством и убийством является абсолютно всеобщим законом. Идет ли речь об их географическом распространении или об их эволюции во времени, повсюду замечается, что они находятся в обратном отношении друг к другу. Допуская наличность этого антагонизма, его можно объяснять двояким образом. Или же убийство и самоубийство являются двумя течениями, настолько противоположными друг к другу, что одно завоевывает себе почву лишь за счет другого; или же они представляют собою два разных русла одного и того же потока, питаемых одним и тем же источником, так что ни одно русло не может наполниться, не истощая настолько же другого. Из этих двух возможных объяснений итальянские криминологи приняли второе. Они видят в самоубийстве и убийстве проявления одного и того же состояния, следствия одной и той же причины, которая выражается то в одной, то в другой, не будучи в состоянии одновременно осуществиться и в той, и в другой. К принятию подобного толкования их побудило то, что, по их мнению, обратная зависимость, наблюдающаяся между обоими явлениями, совсем не исключает параллелизма между ними. Если существуют условия, под влиянием которых они изменяются в обратном направлении, то есть и другие, которые действуют на них одинаково. Так, Морселли говорит, что температура оказывает на них одно и то же действие; они достигают максимума в то время, когда приближается жаркая погода; оба явления чаще у мужчин, чем у женщин; оба, наконец, по Ферри, умножаются с возрастом. Поэтому, будучи противоположны в известных отношениях, в других они обнаруживают одинаковую природу. Но факторы, влияние которых сказывается на них одинаково, все — индивидуальны; они или прямо относятся к известным состояниям организма (возраст, пол), или же идут из космической среды, которая может действовать на моральную личность только через посредство личности физической. Таким образом, убийство и самоубийство сближаются при известных индивидуальных условиях. Психологическая организация, предрасполагающая к тому и другому, одна и та же: две эти склонности в сущности составляют разновидности одного и того же темперамента. Ферри и Морселли, следуя за Ломброзо, сделали даже попытку определить этот темперамент. Он характеризуется ослаблением организма, ставящим человека в неблагоприятные для борьбы условия. Убийца и самоубийца — оба являются типами вырождения и бессилия; одинаково неспособные играть полезную роль в обществе, они в силу этого обречены на поражение. И это одинаковое предрасположение, которое само по себе не склоняется ни в ту, ни в другую сторону, принимает, соответственно характеру социальной среды, форму то убийства, то самоубийства; таким образом и создается тот контраст, который, несмотря на всю его реальность, не может, однако, замаскировать основного тождества. Отсюда там, где нравы вообще кротки и мирны, где существует страх перед пролитием человеческой крови, побежденный подчиняется, признает свое бессилие и, предупреждая действие естественного отбора, отступает от борьбы, лишая себя жизни. Там же, где, наоборот, средняя мораль носит более жесткий характер, где жизнь человеческая чтится менее, он возмущается, объявляет обществу войну и убивает других, вместо того чтобы убивать себя. Словом, самоубийство и убийство, оба суть акты насилия. Но насилие, лежащее в их корне, в одном случае, не встречая противодействия в социальной среде, становится убийством; в другом же, сдерживаемое общественным сознанием, оно обращается к своему источнику, и жертвой его становится субъект, которому оно обязано своим происхождением. Самоубийство, таким образом, признается преобразованным и смягченным убийством. При такой характеристике оно представляется почти что благодетельным; ибо если само по себе оно и не благо, то по крайней мере меньшее зло, избавляющее нас от худшего. Пожалуй, даже не следует пытаться сдерживать его развитие запретительными мерами; ведь это могло бы разнуздать влечение к убийству. Самоубийство, в таком объяснении, является предохранительным клапаном, который не следует запирать. И наконец, самоубийство представляет огромное преимущество, избавляя нас без общественного вмешательства, наивозможно простым и экономным способом, от известного количества бесполезных или вредных субъектов. Не предпочтительнее ли было бы предоставить им мирно уничтожить самих себя, нежели вынуждать общество извергать их насильственно из своего лона. Но обоснованно ли это остроумное положение? Вопрос распадается на две половины, и каждую надлежит исследовать отдельно. Тождественны ли психологические условия преступления и самоубийства? Существует ли антагонизм между социальными условиями, от которых они зависят? Ill Чтобы установить психологическое единство обоих явлений, приводятся факты троякого рода. Прежде всего, пол оказывает одинаковое влияние как на самоубийство, так и на убийство. Выражаясь точнее, влияние пола гораздо в большей степени является следствием причин социальных, чем органических. Женщины убивают себя и других реже, чем мужчины, не потому, что они разнятся от них физиологически, но потому, что они неодинаково участвуют в общественной жизни. Мало того, женщина фактически не обнаруживает одинакового отвращения к обеим этим видам имморальности. Забывают, что существуют виды убийства, специально совершаемые женщинами; это — детоубийства, выкидыши и отравления. Все те виды убийства, которые доступны женщине при современных условиях ее жизни, она совершает так же часто или даже чаще, чем мужчины. По Oettingen'y, половину семейных убийств приходится отнести на ее счет. Ничто не дает поэтому права предполагать, что она, в силу своей прирожденной организации, отличается большим уважением к чужой жизни; ей недостает только случая, ибо она менее замешана в борьбу за жизнь. Причины, которые толкают человека на кровавые преступления, действуют на женщину менее, чем на мужчину, потому что она имеет преимущество находиться вне круга их влияния. Тем же объясняется и то явление, что женщина менее подвержена смерти от несчастных случаев; на 100 таких смертей только 20 падает на женщин. К тому же, если даже соединить в одну рубрику все виды предумышленного убийства, отцеубийства, детоубийства, отравления, все же процент, падающий на женщин, в общем останется еще очень высоким. Во Франции из 100 подобных преступлений от 38 до 39 совершается женщинами; это число поднимается даже до 42, если причислить сюда выкидыши. В Германии это отношение доходит до 51%, в Австрии — до 52%. Правда, при этом оставляются в стороне убийства неумышленные; но ведь убийство только тогда и является настоящим убийством, когда оно совершается предумышленно. С другой стороны, убийства, специфические для женщин —детоубийство, выкидыш,— убийства в семье по самой сущности своей труднее раскрываются. Поэтому значительное их количество ускользает от суда, а следовательно, и от статистики. Допуская, с очень большей вероятностью, что женщина пользуется той же снисходительностью при следствии, какая ей, несомненно, оказывается на суде, где она оправдывается гораздо чаще, чем мужчина, можно думать, что в конце концов склонность к убийству не должна сильно разниться у обоих полов. Наоборот, известно, насколько велик иммунитет женщины по отношению к самоубийству. Влияние возраста на то и другое явление не обнаруживает ни малейших различий. По Ферри, убийства, как и самоубийства, учащаются с возрастом. Мор-селли высказывает противоположное мнение. Истина заключается в том, что здесь нет ни прямого, ни обратного отношения. В то время как число самоубийств возрастает правильно до самой старости, количество обоих видов предумышленного убийства достигает своего апогея в зрелом возрасте, около 30—35 лет, и затем сокращается. Остается влияние температуры. Соединяя все преступления против личности, мы получаем кривую, повидимому подтверждающую теорию итальянской школы. Она подымается до июня и правильно спускается до декабря, так же как и кривая самоубийства. Но этот результат получается просто потому, что под эту общую рубрику «преступления против личности» заносят также изнасилования и покушения против общественной нравственности. Так как эти преступления достигают своего максимума в июне и гак как они гораздо многочисленнее, чем покушения на жизнь, то они и придают кривой свою форму. Но они не обладают никаким родством с убийством; поэтому, чтобы узнать зависимость последнего от времени года, следует их выделить особо. Производя эту операцию и, кроме того, отделяя друг от друга различные виды убийства, мы не найдем и следа указанного параллелизма. В самом деле, нарастание числа самоубийств идет правильно и непрерывно, приблизительно от января до июня, так же как и ее уменьшение в следующую половину года; различные виды убийства, наоборот, колеблются из месяца в месяц самым причудливым образом. Не только общий ход представляется совершенно иным, но даже их максимумы и минимумы не совпадают. Умышленные убийства имеют два максимума: один —в феврале, другой — в августе; предумышленные убийства — также два, но несколько иные: один — в феврале, другой — в ноябре. Детоубийства достигают его в мае; для смертельных ран максимум— в августе и октябре; если высчитывать изменения не по месяцам, а по временам года, различия будут не менее заметны. Осенью насчитывается почти столько же умышленных убийств, сколько и летом (1968 вместо 1974), зимою их больше, чем весною. Предумышленные совершаются чаще всего зимою (2621), затем следует осень (2596), лето (2478) и, наконец, весна (2287). Детоубийства особенно часты весною (2111), затем следует зима (1939). Поранения летом и осенью держатся на одинаковом уровне (2854 и 2845), затем следует весна (2690), ей немногим уступает зима (2653). Совершенно иначе, как мы видели, распределяются самоубийства. Кроме того, если бы склонность к самоубийству была бы только сдержанным влечением к убийству, то следовало бы ожидать, что убийцы, поставленные в невозможность удовлетворить свои смертоносные инстинкты на других, станут своими собственными жертвами. Влечение к убийству должно было бы, под влиянием тюремного заключения, преобразовываться во влечение к самоубийству. Но, по свидетельству большинства наблюдателей, замечается обратное явление: крупные преступники редко прибегают к самоубийству. Cazauvieilh собрал через врачей французских каторжных тюрем сведения о численности самоубийств среди каторжан. В Рошфоре за 30 лет наблюдался всего один случай; в Тулоне, где число заключенных достигает до 3000 и 4000 человек (1814—1834 гг.),— ни одного. В Бресте факты несколько другие: за 17 лет при 3000 (в среднем) заключенных случилось 13 самоубийств, что составляет в год 21 случай на 100 000; эта цифра, более высокая, чем предыдущие, не должна нас удивлять, так как относится к составу главным образом мужскому и взрослому. По доктору Лилю, на 9320 смертей, случившихся на каторге с 1816 по 1837 г. включительно, приходится всего лишь 6 самоубийств. Из анкеты, произведенной доктором Perms'от, следует, что за 7 лет в различных центральных тюрьмах с населением (в среднем) в 15111 заключенных случилось только 30 самоубийств. На каторге замечено еще более слабое соотношение, именно 5 самоубийств с 1838 по 1845 г. на среднее население в 7041 человек. Brierre de Boismont подтверждает последний факт и добавляет: «Профессиональные убийцы, крупные преступники прибегают к этому средству, чтобы избавиться от отбывания наказания, гораздо реже, чем арестанты, не столь глубоко развращенные». Доктор Леруа также замечает, что «профессиональные негодяи (coquins de profession), завсегдатаи каторги» редко покушаются на свою жизнь. Два статистика, цитируемые один у Морселли, другой у Ломброзо, правда, пытаются установить, что заключенные в общем отличаются исключительной склонностью к самоубийству. Но так как в их данных убийцы не выделяются из ряда других преступников, то отсюда невозможно сделать никаких заключений по интересующему нас вопросу. Эти данные подтверждают наши предыдущие выводы. В самом деле, они доказывают, что само по себе заключение не развивает очень сильную склонность к самоубийству. Если даже не считать тех, кто убивает себя тотчас после ареста и до осуждения, все же остается значительное число самоубийств, которые можно приписать только влиянию, оказываемому тюремною жизнью. Но в таком случае заключенный убийца должен был бы испытывать влечение необычайной силы к добровольной смерти; ведь влияние тюрьмы должно было бы еще более усиливать то прирожденное предрасположение, какое ему приписывается. Но на деле оказывается, что в этом отношении убийцы стоят скорее ниже средней, чем выше; таким образом, факт этот ничуть не подтверждает гипотезы, по которой убийца должен был бы, в силу одного только своего темперамента, иметь естественную склонность к самоубийству, всегда готовую обнаружиться, как только этому благоприятствуют обстоятельства. Впрочем, мы не утверждаем и того, что убийцы обладают настоящим иммунитетом; имеющиеся у нас данные недостаточны для решения вопроса. Возможно, что при известных условиях важные преступники, не задумываясь, сводят свои счеты с жизнью и расстаются с ней довольно легко. Но здесь, во всяком случае, нельзя говорить об общности и необходимости явления, которых логически требует доктрина итальянской школы. Только это мы и хотели доказать. IV Остается рассмотреть второе положение итальянской школы. Установив, что убийство и самоубийство не происходят из одного источника, надо исследовать, имеется ли реальный антагонизм между социальными условиями, от которых они зависят. Вопрос этот более сложен, чем это думали наши итальянские авторы и многие из их противников. Несомненно, что в известном числе случаев закон обратного отношения не подтверждается. Довольно часто оба явления, вместо того чтобы расходиться, или исключают друг друга, или развиваются параллельно. Так, во Франции, тотчас же после войны 1870 г., число умышленных убийств обнаружило некоторую тенденцию к увеличению. В среднем на год приходилось 105, в период 1861 —1865 гг.; это число выросло до 163 в 1871 —1876 гг.; число же предумышленных убийств за то же время повысилось с 175 до 201. Но в продолжение этого же времени число самоубийств также возросло в значительной пропорции. То же явление замечалось в период с 1840 по 1850 г. В Пруссии число самоубийств с 1865 по 1870 г. не превышало 3658, в 1876 г. оно достигло 4459, в 1878 г.— 5042, увеличившись на 36%. Оба вида убийства следовали тем же ходом; с 151 в 1869 г. число их последовательно росло до 166 в 1874 г., до 221—в 1875 г., до 253 —в 1878 г., увеличившись на 67%. То же явление замечено и для Саксонии. До 1870 г. число самоубийств колебалось между 600 и 700; только в 1868 г. оно достигло 800. Начиная с 1876 г. оно достигает 981, затем 1114 и 1126, наконец в 1880г.—1171. Параллельно с ним число покушений на чужую жизнь увеличилось с 637 в 1873 г. до 2232 в 1878 г. В Ирландии с 1865 по 1880 г. число самоубийств возросло на 29%; число убийств возросло также и почти в той же пропорции (23%). В Бельгии с 1841 по 1885 г. число убийств возросло с 47 до 139, а самоубийств — с 240 до 670, что составляет увеличение на 195% для первых и на 178% — для вторых. Эти цифры так мало соответствуют закону, что Ферри пытался даже подвергнуть сомнению точность бельгийской статистики. Но, даже принимая во внимание только последние годы, данные о которых менее всего сомнительны, мы приходим к тем же результатам. С 1874 по 1885 г. увеличение числа убийств составляет 51% (139 случаев вместо 92) и числа самоубийств — 79% (670 случаев вместо 374). Географическое распределение обоих явлений дает место подобным же заключениям. Во Франции наибольшее количество самоубийств насчитывается в департаментах: Сены, Сены-и-Марны, Сены-и-Уазы, Марны. Не имея того же перевеса по отношению к числу убийств, они тем не менее и здесь стоят далеко не на последнем месте: так, Сена занимает 26-е для умышленных и 17-е для предумышленных убийств, Сена-и-Марна — 33-е и 14-е, Сена-и-Уаза— 15-е и 24-е, Марна— 27-е и 21-е. Вар, занимая 10-е место по отношению к самоубийствам, стоит на 5-м для предумышленных и на 6-м для умышленных убийств. В деп. Устья-Роны, где много самоубийств, не меньше и убийств. На карте самоубийств, равно как и на карте убийств, Иль-де-Франс окрашен в темную краску так же, как и полоса, образуемая департаментами у Средиземного моря, с той только разницей, что первая область окрашена не так густо на карте убийств, как на карте самоубийств, вторая же представляет обратную картину. То же и в Италии: Рим по отношению к самоубийствам занимает третье место в ряду прочих судебных округов и четвертое в отношении квалифицированных убийств. Наконец, мы видели, что на низшей ступени человеческих обществ, где жизнь мало уважается, самоубийства часто бывают крайне многочисленны. Но как бы ни были бесспорны эти факты и какое бы значение им ни следовало придавать, существуют факты противоположного характера, которые отличаются не меньшим постоянством и еще гораздо большей многочисленностью. Если в некоторых случаях оба явления уживаются друг с другом, по крайней мере отчасти, то в других они находятся в явном антагонизме. 1°. Если в известные периоды столетия обе кривые и двигались в одном направлении, то, взятые в целом или по крайней мере на протяжении достаточного времени, они расходятся между собою достаточно ясно. Во Франции с 1826 по 1880 г. число самоубийств, как мы видели, правильно увеличивается, число же убийств, наоборот, клонится к уменьшению, хотя и с меньшей скоростью. За 1826—1830гг. ежегодно судилось за умышленное убийство в среднем 279 человек в год; за 1876—1880 гг. их было не больше 160, и в промежутке между этими периодами число судившихся падало даже до 121 человека за 1861 —1865 гг. и до 119 — за 1856—1860гг. В два периода, около 1845 г. и сейчас же после войны, замечалась тенденция к увеличению; но если отвлечься от второстепенных колебаний, то общее движение в сторону уменьшения остается совершенно очевидным. Уменьшение выражается 43%, и оно тем более ощутимо, что население за то же время увеличилось на 16%. Уменьшение не так заметно по отношению к числу предумышленных убийств. В 1826—1830 гг. было осуждено 258 человек; в 1876—1880гг.— 239. Уменьшение становится заметным, только приняв в расчет увеличение населения. Эта разница в эволюции предумышленного убийства нисколько не должна нас удивлять. В самом деле, оно является преступлением смешанного характера, имеющим некоторые общие черты с убийством умышленным, но также и разнящимся от него в некоторых отношениях; оно зависит отчасти и от других причин. Иногда это просто то же умышленное убийство, но только более обдуманное и преднамеренное, иногда же оно является простым спутником преступлений против собственности. В последнем случае оно находится в зависимости от других факторов, чем убийство вообще. Оно определяется не той суммой побуждений всякого рода, которые толкают на пролитие крови, но зависит от влияния различных мотивов, побуждающих к воровству. Двойственность этих обоих видов преступления заметна уже на их динамике по месяцам и временам года. Предумышленное убийство достигает своей кульминационной точки зимою и особенно в ноябре, совсем как и преступления против собственности. Таким образом, эволюция убийства, в его чистом виде, лучше прослеживается по кривой умышленного убийства, а не по кривой предумышленного. То же явление наблюдается и в Пруссии. В 1834 г. было начато 368 следствий по делам об убийствах и нанесении смертельных ран, т. е. одно на 29 000 жителей. В 1851 г. их было уже только 257, или одно на 53 000 жителей. Затем уменьшение продолжалось в том же направлении, хотя и более медленно. В 1852 г. одно следствие производилось еще на 76 000 жителей; в 1873 г.— одно уже только на 109 000 жителей. В Италии с 1875 по 1890 г. уменьшение числа убийств простых и квалифицированных выражалось 18% (2660 вместо 3280), тогда как число самоубийств увеличилось на 80%. Там, где число убийств не уменьшается, оно остается по крайней мере без движения. В Англии с 1860 по 1865 г. насчитывалось ежегодно 359 случаев убийства, в 1881 —1885 гг. их было всего 329; в Австрии их было 528 за 1866—1870 гг. и только 510 — за 1881 —1885 гг., и весьма вероятно, что если в этих различных странах отделить убийство от предумышленного убийства, то регрессия стала бы еще более заметной. За то же время во всех этих государствах количество самоубийств увеличилось. Г. Тард, однако, пытался показать, что уменьшение числа убийств во Франции было только кажущимся. Оно объясняется будто бы тем, что к делам, прошедшим через суд присяжных, не присоединяли дел, оставленных прокурорским надзором без движения или прекращенных за отсутствием состава преступления. Согласно этому автору, число умышленных убийств, оставленных, таким образом, без судебного преследования и поэтому не вошедших в итоги судебной статистики, не перестает увеличиваться; присоединив их к однородным преступлениям, бывшим предметом судебного разбирательства, мы получаем непрерывную прогрессию вместо указанной регрессии. К несчастью, доказательство, приводимое им в подтверждение своего мнения, основано на слишком остроумном сопоставлении цифр. Он довольствуется сравнением числа убийств обоих видов, не дошедших до судебного разбирательства, за период 1861 —1865 гг. с периодами за 1876—1880 и 1880—1885 гг. и показывает, что второй и особенно третий стоят по численности выше первого. Но именно период 1861 —1865 гг. является совершенно исключительным из всего столетия по минимальному количеству дел, прекращенных до суда; по неизвестным нам причинам число их исключительно низко. Таким образом, период этот совершенно не годится как исходная точка сравнения. Да и вообще, нельзя строить закон на сравнении двух-трех цифр. Если бы, вместо того чтобы брать такую отправную точку, г. Тард наблюдал бы в течение более долгого времени изменения, которым подвергалось число этих дел, то он пришел бы к совершенно другому заключению. Вот в самом деле результаты подобной работы.
* Некоторые из этих дел были
прекращены, потому что они не составляют ни преступления, ни проступка. Их
следовало бы поэтому просто скинуть со счета. Тем не менее мы этого не
сделали, желая следовать за нашим автором; впрочем, этот вычет, мы уверены в
том, не изменил бы ничего в выводах, вытекающих из приводимых цифр. Цифры изменяются не совсем правильно; но с 1835 по 1885 г. они заметно- уменьшаются, несмотря на увеличение, происшедшее около 1876г. Уменьшение представляет для умышленных убийств 37% и для предумышленных — 24%. Здесь, стало быть, нет ничего, что позволяло бы заключить о возрастании соответствующей преступности. 2°. В странах, где замечается усиление убийств и самоубийств, числа их измеряются не в одинаковых пропорциях; никогда оба явления не достигают максимума в одном и том же месте. Наоборот, по общему правилу, там, где убийство сильно распространено, ему соответствует своего рода иммунитет по отношению к самоубийству. Испания, Ирландия и Италия суть три страны Европы, где меньше всего самоубийств; в первой — на 1 млн. жителей их приходится 17; во второй — 21 и в третьей — 37. Наоборот, нет таких стран, где бы убивали больше. Это единственные страны, где число умышленных убийств превышает число самоубийств. В Испании убийств происходит втрое больше, чем самоубийств (1484 убийства на год за период 1885— 1889 гг. и только 514 самоубийств); в Ирландии первых вдвое больше, чем вторых (225 против 116), в Италии— в полтора раза больше (2322 против 1437). Наоборот, Франция и Пруссия отличаются распространенностью самоубийства (160 и 260 на миллион); убийств же здесь в десять раз меньше: Франция насчитывает их только 734 случая и Пруссия 459 ежегодно в среднем за период 1882—1888 гг. Те же отношения наблюдаются и внутри каждой страны. На карте самоубийств Италии север сплошь окрашен в темную краску, весь же юг совершенно чист; как раз обратное замечается относительно убийств. Если, далее, распределить итальянские провинции на два класса по проценту самоубийств и посмотреть, каков в них же процент убийств, то антагонизм обнаружится еще резче: 1-й класс. От 4,1 самоуб. до 30 на 1 млн 271,9 уб. на 1 млн 2-й » От 30 » 80 » 95,2 » В Калабрии убивают больше, чем где-либо: здесь на 1 млн бывает 69 убийств; нет зато провинции, где бы самоубийство случалось реже. Во Франции департаменты, где совершается больше всего умышленных убийств, это — Корсика, Восточные Пиренеи, Лозера и Ардэм. Но по отношению к самоубийствам Корсика спускается с первого места на 85-е; Восточные Пиренеи — на 63-е, Лозера — на 83-е и, наконец, Ардэм — на 68-е. В Австрии самоубийства достигают своего максимума в Нижней Австрии, Богемии и Моравии, между тем как они слабо развиты в Крайне и Далмации. Наоборот, Далмация насчитывает 79 убийств на 1.000.000 жителей и Крайна — 57,4, тогда как Нижняя Австрия только—14, Богемия—11, и Моравия- 15. 3°. Мы установили, что войны оказывают на увеличение самоубийств задерживающее влияние. Они производят то же действие на воровство, вымогательство, злоупотребление доверием и т. п. Но одно преступление составляет исключение. Это — убийство. Во Франции в 1870 г. число умышленных убийств, достигавшее в среднем 119 за 1866—1869 гг., вдруг поднялось до 133 и затем до 224 в 1871 г., увеличившись, таким образом, на 88%, чтобы упасть до 162 в 1872 г. Это увеличение окажется еще более значительным, если вспомнить, что возраст, на который приходится наибольшее количество убийств, определяется 30 годами и что вся молодежь в то время была под знаменами. Следовательно, преступления, которые она совершила бы в мирное время, не вошли в статистические данные. Более того, несомненно, расстройство судебной администрации должно было помешать раскрытию многих преступлений, и не одно следствие оканчивалось ничем. Если, несмотря на такие две причины к уменьшению, число зарегистрированных убийств увеличилось, то можно представить себе, насколько больше было действительное увеличение. Также и в Пруссии, когда вспыхнула война с Данией в 1864 г., число убийств поднялось с 137 до 169 — уровень, которого оно не достигало с 1854 г.; в 1865 г. оно падает до 153, но поднимается в 1866 г. (159), несмотря на мобилизацию прусской армии. В 1870 г. отмечено сравнительно с 1869 г. легкое понижение (151 случай вместо 185); но насколько же оно слабее, чем по отношению к другим преступлениям! В это же время квалифицированное воровство понижается наполовину: 4599 в 1870 г. вместо 8676 в 1869 г. В этих цифрах смешаны вдобавок умышленные и предумышленные убийства; но эти преступления не имеют одинакового значения, и мы знаем, что во Франции только число первых увеличилось во время войны. Если, таким образом, общее увеличение убийств всех разрядов не очень значительно, то можно думать, что умышленные убийства, отделенные от предумышленных, обнаружили бы более резкое увеличение. Кроме того, если бы можно было восстановить все случаи, которые, несомненно, упущены в вышеуказанных двух случаях, то это кажущееся понижение было бы сведено на нет. Наконец, крайне знаменательно, что число неумышленных убийств заметно подымается за это время — с 268 в 1869 г. до 303 в 1870 г. и до 310 в 1871 г. Не доказывает ли это, что во время войны менее считаются с человеческой жизнью, чем в мирное время. Политические кризисы оказывают то же действие. В то время как во Франции с 1840 по 1846 г. кривая умышленных убийств остается на одной высоте, в 1848 г. она круто подымается, достигая своего максимума (240) в 1849 г. То же явление имело место и ранее, в первые годы царствования Луи-Филиппа. Борьба между политическими партиями достигала в то время крайнего ожесточения. И именно тогда число умышленных убийств достигло максимума за все столетие. С 204 в 1830г. оно поднялось до 264 в 1831 г.— цифры, потом ни разу непревзойденной; в 1832г. оно еще достигает 253 и 257 — в 1833г. В 1834 г. замечается резкое падение, которое затем все ускоряется; к 1838 г. остается-всего 145 случаев, т. е. уменьшение достигает 44%. За это время число самоубийств эволюционировало в обратном направлении. В 1833 г. оно держится на том же уровне, что и в 1829 г. (1873 — в первом случае, 1904 — во втором); затем в 1834 г. начинается очень быстрое повышение, и в 1838 г. оно достигает 30%. 4°. Самоубийство свойственно более городу, чем деревне. Противоположное замечается относительно убийства. Складывая цифры умышленных убийств, дето- и отцеубийств, получим, что в деревне в 1887 г. совершено 11,1 преступления этого рода и только 8,6 в городе. В 1880 г. цифры почти те же (11,0 и 9,3). 5°. Мы видели, что католичество ослабляет стремление к самоубийству, тогда как протестантство его усиливает. И обратно: убийства происходят чаще в католических странах, чем в протестантских:
В особенности поразительна противоположность этих двух общественных групп в отношении к простому убийству. Тот же контраст наблюдается и внутри Германии. Округа, дающие цифры выше средней, все — католические, это — Познань (18,2 умышленных и предумышленных убийств на 1.000.000 жителей), Дунай (16,7), Бромберг (14,8), Верхняя и Нижняя Бавария (13.0). Даже внутри Баварии, в провинции тем более убийств, чем менее в них протестантов. 6°. Наконец, в то время как семейная жизнь оказывает на самоубийство умеряющее действие, она скорее стимулирует убийство. За период 1884—1887гг. на 1 млн супружеств приходилось в среднем за год 5,07 убийств; на 1 млн холостяков старше 15 лет —12,7. Первые, по-видимому, пользуются по отношению ко вторым коэффициентом предохранения, равным приблизительно 2,3. Однако следует считаться с тем фактом, что эти две категории не относятся к одному и тому же возрасту и что напряженность влечения к убийству изменяется в различные моменты жизни. Средняя для холостяков приходится на период от 25 до 30 лет, для женатых — около 45 лет. Но именно между 25 и 30 годами стремление к убийству достигает своего максимума; 1 млн индивидуумов в этом возрасте дает ежегодно 15,4 убийств, тогда как к 45 годам эта пропорция падает до 6,9. Отношение между первым и вторым числом равно 2,2. Таким образом, уже благодаря только своему старшему возрасту женатые люди должны были бы совершать вдвое меньше убийств, чем холостяки. Их положение, привилегированное на первый взгляд, зависит не от того, что они женаты, но от того, что они старше. Семейная жизнь не дает им никакого иммунитета. Семья не только не предохраняет от убийства, но можно подумать, что она даже предрасполагает к нему. В самом деле, весьма вероятно, что женатые должны обладать, в принципе, высшей моральностью, чем холостые. Они обязаны своим превосходством в этом отношении не столько, думаем мы, брачному отбору, действием которого, однако, не следует пренебрегать, сколько тому влиянию, какое оказывает семья на каждого из своих членов. Почти несомненно, что человек гораздо менее проникается моралью, когда он одинок и покинут, чем когда он на каждом шагу подвергается благодетельной дисциплине семейной среды. Если же, в отношении к убийству, женатые люди не находятся в лучшем положении, чем холостяки, то это можно объяснить только тем, что морализующее влияние, которым они пользуются и которое должно было бы предохранять их от всякого рода преступлений, частично нейтрализуется зловредным влиянием, побуждающим их к убийству и коренящимся, очевидно, в условиях семейной жизни. В итоге мы приходим к тому заключению, что самоубийство то сосуществует с убийством, то они взаимно исключают друг друга; то они проявляются одинаково под влиянием одинаковых условии, то реагируют на них в противоположном направлении; но случаи антагонизма между ними более многочисленны. Чем же объясняются эти на первый взгляд противоречивые факты? Примирить их между собой можно, только допустив, что существуют различные виды самоубийства, из которых одни имеют некоторое сродство с убийством, другие же противоречат последнему. Нельзя же допустить, чтобы одно и то же явление обнаруживало такие различия при наличности одинаковых условий. Самоубийство, варьирующее параллельно убийству, и самоубийство, варьирующее в обратном направлении, не могут быть одной природы. И действительно, мы показали, что существуют различные типы самоубийств, характерные свойства которых неодинаковы. Этим подтверждаются выводы предыдущей книги и в то же время объясняются только что изложенные факты. Их одних было бы уже достаточно, чтобы заключить о внутренней разнородности самоубийств, но гипотеза перестает быть только гипотезой, если, будучи сопоставлена с добытыми ранее результатами, она выигрывает от этого сопоставления в своей достоверности. Так и в данном случае, зная, что существуют различные виды самоубийства, и зная, чем они отличаются друг от друга, мы легко можем заметить, какие из них несовместимы с убийством, какие, напротив, зависят отчасти от одних с ним причин и чем объясняется, что несовместимость является более частым фактом. Наиболее распространенным в настоящее время и более всего повышающим цифру добровольных смертей типом самоубийств является самоубийство эгоистическое. Для него характерно состояние угнетенности и апатии, обусловленное преувеличенной индивидуализацией. Индивидуум не дорожит больше своей жизнью, потому что он перестает достаточно ценить единственного посредника, соединяющего его с реальностью, каким является общество. Имея о себе и своей собственной ценности слишком преувеличенное представление, он хочет быть своей собственной целью, и, так как подобная цель не в состоянии его удовлетворить, он начинает тосковать и тяготиться жизнью, которая кажется ему лишенной смысла. Убийство определяется условиями противоположного характера. Оно является актом насилия, который не может произойти бесстрастно. Но если в обществе индивидуализация частей еще слабо выражена, интенсивность коллективных состояний повышает общий уровень жизни страстей, более того, нигде нет такой благоприятной почвы для развития в особенности страсти к убийству. Там, где родовой дух сохранил свою древнюю силу, обиды, нанесенные семье, считаются оскорблением святыни, подлежащим самому жестокому отмщению; и это отмщение не может быть предоставлено кому-то третьему. Здесь-то коренится практика вендетты, все еще обагряющей кровью нашу Корсику и некоторые южные страны. Там, где жива еще религиозная вера, она часто является вдохновительницей убийств так же, как и вера политическая. По общему правилу, поток убийств тем более стремителен, чем менее сдерживается он общественным сознанием, т. е. чем более извинительными считаются покушения на жизнь; и так как им придается тем менее значения, чем меньше общепризнанная мораль ценит личность и то, что ее интересует, то слабая индивидуализация или, пользуясь нашим термином, альтруистическое настроение поощряет убийства. Вот почему в низших обществах они и многочисленны, и слабо преследуются. Их частота и относительная к ним терпимость происходят от одной и той же причины. Меньшее уважение, которым пользуется личность, открывает ее для насилия, и самое насилие считается менее преступным. Эгоистическое самоубийство и убийство обусловливаются, таким образом, антагонистичными причинами, и поэтому невозможно, чтобы одно развивалось свободно там, где процветает другое. Там, где общественные страсти отличаются жизненностью, человек гораздо менее склонен как к бесплодным мечтаниям, так и к холодным расчетам эпикурейца. Привыкнув лишь в слабой степени считаться с судьбой личностей, он не слишком тревожится о своей участи. Мало заботясь о человеческих страданиях, он легче сносит и бремя своих личных горестей. Напротив, по тем же самым причинам альтруистическое самоубийство и убийство могут свободно идти ровным шагом, они оба зависят от аналогичных условий, разнящихся лишь по степени. Привыкнув презирать свою собственную жизнь, нельзя уважать и чужую. В силу этой причины убийства и добровольные смерти присущи некоторым первобытным народам. Однако было бы неправдоподобно объяснять той же причиной случаи параллелизма, наблюдаемые нами у цивилизованных народов. Состояние чрезмерного альтруизма не могло бы породить те наблюдаемые нами случаи самоубийства, которые в самой культурной среде сосуществуют в большом числе с умышленными убийствами. Чтобы толкать на самоубийство, альтруизм должен обладать исключительною интенсивностью— даже большею, чем это нужно для того, чтобы побуждать к убийству. В самом деле, какую бы слабую ценность я ни придавал существованию личности вообще, моя собственная личность всегда будет значить в моих глазах больше, чем личность другого. При прочих равных условиях средний человек более склонен уважать человеческую личность в самом себе, чем у подобных себе; вследствие этого требуется более энергичный стимул, чтобы преодолеть, это чувство уважения в первом случае, чем во втором. Но в настоящее время вне некоторых и немногочисленных специальных сред, вроде армии, чувство безличности и самоотречения слишком слабо выражено, а противоположные чувства слишком распространены и сильны, чтобы до такой степени облегчить самоуничтожение. Поэтому должна существовать другая, более современная форма самоубийства, способного комбинироваться с убийством. Таково именно самоубийство аномичное. В самом деле, аномия порождает состояние отчаяния и раздражительной усталости, которая может, смотря по обстоятельствам, обратиться против самого субъекта или против других; в первом случае мы имеем самоубийство, во втором — убийство. Что касается причин, определяющих направление, в котором разряжаются перевозбужденные таким образом силы, то они коренятся, вероятно, в моральной организации действующего лица. Смотря по степени оказываемого им сопротивления, он склоняется в ту или другую сторону. Человек средней нравственности скорее убьет, нежели покончит с собою. Мы даже видели, что иногда эти два проявления происходят одно вслед за другим и представляют собой просто две стороны одного и того же акта, что и доказывает их тесное родство между собой. Состояние, в котором находится тогда личность, настолько невыносимо, что для ее облегчения требуется две жертвы. Вот почему в настоящее время некоторый параллелизм между развитием убийства и развитием самоубийства встречается преимущественно в крупных центрах и в странах, отличающихся высоким уровнем развития цивилизации. Именно там аномия принимает острый характер. Та же причина мешает уменьшиться числу убийств с той же быстротой, с какой нарастает число самоубийств. В самом деле, если прогресс индивидуализма подрывает одну из причин убийства, то аномия, сопровождающая хозяйственное развитие, порождает новую причину. Именно, можно думать, что если во Франции, а еще более в Пруссии число самоубийств и убийств возросло одновременно с войной, то это обусловливалось моральной неустойчивостью, которая по различным причинам увеличилась в обеих странах. Наконец, таким же образом можно объяснить, почему, несмотря на подобные частичные совпадения, антагонизм все-таки является .более общим фактом. Анемичное самоубийство носит массовый характер только в определенных местах — там, где замечается огромный подъем в промышленной и торговой деятельности. Эгоистическое самоубийство, вероятно, является наиболее распространенным; поэтому оно и вытесняет кровавые преступления. Итак, мы приходим к следующему заключению. Если развитие самоубийства и убийства часто бывает обратно пропорционально, то это зависит не от того, что они являются двумя различными сторонами одного и того же явления, а от того, что, с известных точек зрения, они представляют собой два противоположных социальных течения. Они тогда исключают взаимно друг друга, как день исключает ночь, как болезни, обусловленные крайней сыростью, исключают болезни от крайней сухости. И если, несмотря на общее противоречие, не исключается все-таки и возможность гармонии, то это можно объяснить тем, что известные виды самоубийства не только не зависят от причин, противоположных причинам, вызывающим убийства, но выражают собой то же самое социальное состояние и развиваются в той же самой социальной среде, что и убийства. Можно, кроме того, предвидеть, что убийства, сосуществующие с аномичным самоубийством, и убийства, уживающиеся с самоубийством альтруистическим, не должны быть однородны; что вследствие этого убийство, так же как и самоубийство, не представляет собой с точки зрения криминалиста некоторой единой и нераздельной сущности, но должно рассматриваться как множественность видов, весьма отличных друг от друга. Но здесь не место настаивать на этом важном для криминологии тезисе. Следовательно, не совсем точно то положение, согласно которому самоубийство является счастливым противовесом, уменьшающим безнравственность, и по которому выгодно не препятствовать его развитию. Оно не является функционально связанным с убийством. Несомненно, моральная организация, от которой зависит эгоистическое самоубийство, совпадает с той, которая обусловливает регресс убийства у цивилизованных народов. Но самоубийца этого вида отнюдь не есть неудавшийся убийца, не имеет никаких свойств последнего,— это человек, подавленный и охваченный тоской. Поэтому его акт можно осуждать, не превращая в убийц тех, кто находится на том же пути. Быть может, нам скажут, что, порицая самоубийство, мы одновременно порицаем, а значит, и ослабляем производящее его состояние, т. е. эту своеобразную гиперэстезию ко всему касающемуся индивидуума, что таким образом мы рискуем усилить тот дух неуважения к личности, следствием которого является распространенность убийств? Но для того, чтобы индивидуализм был в состоянии сдерживать наклонность к убийствам, вовсе не нужна та крайняя степень его развития, которая делает из него источник волны самоубийств. Для того чтобы личность получила отвращение к мысли пролить кровь себе подобных, совершенно не нужно, чтобы индивидуум замыкался в самом себе. Достаточно, если он любит и уважает человеческую личность вообще. Индивидуалистическая тенденция может быть, таким образом, сдержана в должных пределах, причем это вовсе не должно повлечь за собой усиление тенденции к убийству. Так как аномия вызывает в одинаковой степени и убийство, и самоубийство, то все, что может уменьшить ее развитие, уменьшает и развитие ее последствий. Не следует опасаться, что если ей помешают проявиться под формой самоубийства, то она выразится в большем количестве убийств; ибо человек, оказавшийся настолько чувствительным к моральной дисциплине, чтобы из уважения к общественному сознанию и его запретам отказаться от мысли покончить с собой,— еще с большим трудом решился бы на убийство, подвергающееся более суровому осуждению и влекущему за собой более суровое возмездие. К тому же, как мы видели, в подобном случае прибегают к самоубийству лучшие, и поэтому нет никакого основания покровительствовать подбору, идущему в сторону регресса. Эта глава может послужить для освещения одной часто возбуждавшей разногласия проблемы. Известно, сколько споров было вокруг вопроса о том, являются ли чувства, испытываемые нами по отношению к себе подобным, простым видоизменением эгоизма, или, наоборот, они возникают независимо от последнего. Мы только что видели, что ни та, ни другая гипотеза не имеют под собой основания. Конечно, жалость к другому и жалость к самому себе не чужды одна другой, ибо их развитие или упадок идут параллельно, но ни одно из этих чувств не вытекает из другого. Если между ними наблюдается родственная связь, то это потому, что оба они вытекают из одного и того же состояния коллективного сознания, различные стороны которого они представляют. Они выражают только тот способ, посредством которого общественное мнение определяет моральную ценность личности вообще. Если ценность личности стоит высоко в общественном мнении, мы прилагаем эту социальную мерку к другим в той же степени, как и к самим себе; их личность, как и наша, приобретает большую ценность в наших глазах, и мы становимся более чувствительными как к тому, что индивидуально задевает каждого из них, так и к тому, что задевает нас самих. Их горести, как и наши горести, более сильно действуют на нас. Поэтому чувство симпатии, обнаруживаемой нами по отношению к ним, не является простым продолжением подобного же чувства, испытываемого нами по отношению к самим себе. Но и то, и другое — следствия одной и той же причины; они создаются благодаря одному и тому же моральному состоянию. Без сомнения, это моральное состояние видоизменяется сообразно тому, направлено ли чувство на нас самих или на кого-нибудь другого: в первом случае наш инстинктивный эгоизм усиливает его, а во втором— ослабляет. Но и в том, и другом присутствует и действует это моральное состояние. Это до такой степени верно, что даже те чувства, которые, казалось бы, составляют личные особенности индивидуума, зависят от причин, стоящих выше личности. Даже наш эгоизм — и тот по большей части является продуктом общества. ГЛАВА III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫТеперь, когда мы знаем, что такое самоубийство, его разновидности и главные законы, управляющие этим явлением, нам следует рассмотреть, какую линию поведения должно выбрать современное общество по отношению к нему. Но этот вопрос обусловливает собою еще и другой. Следует ли рассматривать самоубийство у цивилизованных народов как явление нормальное или, наоборот, как аномальное? В самом деле, в зависимости от принятого решения или же придется признать, что необходимы и возможны реформы для сокращения размеров этого явления, или же, наоборот, следует, сохраняя к нему вполне отрицательное отношение, примириться с ним как с фактом. Быть может, некоторые будут удивляться тому, что самый этот вопрос может быть поставлен. В самом деле, мы привыкли смотреть на все неморальное, как на естественное. Однако если, как мы установили, самоубийство оскорбляет нравственное сознание, то, по-видимому, невозможно не видеть в нем явление социальной патологии. Выше мы показали, что даже такое очевидное проявление имморальности, как преступление, не должно быть обязательно отнесено к категории болезненных явлений. Правда, что это утверждение может смутить некоторых и, при поверхностном взгляде, может показаться, что оно колеблет самые основы морали. Это утверждение тем не менее не заключает в себе ничего разрушительного. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к той аргументации, на которой основывается это утверждение и которую можно резюмировать следующим образом. Или слово болезнь ровно ничего не означает, или же оно означает что-то такое, чего можно избежать. Без сомнения, не все то, чего можно избежать, болезненно, но все то, что болезненно, может быть избегнуто, по крайней мере в большинстве случаев. Если не отказываться от различия в понятиях и терминах, то невозможно характеризовать этим словом такое состояние или свойство существ известного вида, которого они не могут не иметь, которое неизбежно присуще их организации. С другой стороны, у нас имеется лишь один объективный признак, могущий быть эмпирически установлен и доступный постороннему контролю, путем которого мы могли бы констатировать наличность этой необходимости,— это ее всеобщность. Если всегда и повсюду, без единого исключения, два явления встречаются совместно, то будет методологически нелепо предположить, что они могут существовать раздельно. Но это еще не значит, что одно является причиной другого. Связь может и не быть непосредственной, но тем не менее она есть, и она необходима. Мы не знаем такого общества, в котором бы в различных формах не наблюдалось более или менее развитой преступности. Нет такого народа, чья мораль не нарушалась бы каждодневно. Значит, мы должны сказать, что преступление необходимо, что оно не может не быть, что основные условия общежития, такие, какими мы их знаем, его логически обусловливают. Следовательно, оно нормально. Нам нет надобности ссылаться здесь на неизбежное несовершенство человеческой природы и доказывать, что зло, хотя и не может быть предупреждено, все-таки не перестает быть злом; это слова проповедника — не ученого. Необходимое несовершенство — не есть еще болезнь; иначе следовало бы всюду видеть болезнь, потому что несовершенство — всюду. Нет такой функции организма, нет такой анатомической формы, относительно которых нельзя было бы пожелать некоторого улучшения. Говорят иногда, что оптик покраснел бы, сделав зрительный аппарат такого грубого устройства, каков человеческий глаз. Но отсюда никто не заключил, да и нельзя заключить о ненормальности строения этого органа. Более того — невозможно, чтобы то, что необходимо, не заключало бы в себе известного совершенства, говоря несколько теологическим языком наших противников. То, что составляет необходимое условие жизни, не может не быть полезно, если только сама жизнь полезна. Не будем выходить из этих пределов. В самом деле, мы показали, каким образом преступление может быть полезно. Однако оно может быть для чего-нибудь полезно только в том случае, если оно осуждается и подавляется. Совершенно несправедливо мнение, по которому простое зачисление преступления в разряд явлений нормальной социологии уже означает его оправдание. Если преступление есть нормальное явление, то нормально также, чтобы оно было наказываемо. Наказание и преступление составляют одну нераздельную пару. Одно в такой же степени необходимо, как и другое. Всякое аномальное ослабление карательной системы вызывает усиление преступности и доводит ее до аномальной степени интенсивности. Применим эти положения к самоубийству. Правда, мы не имеем достаточных данных, чтобы утверждать, что нет такого общества, где не наблюдалось бы самоубийства. Статистика дает нам данные по этому вопросу только относительно небольшого числа народов. У других же наличность хронических самоубийств может быть констатирована лишь по следу, оставляемому ими в законодательстве. Однако мы не знаем наверное, было бы самоубийство повсюду объектом юридической регламентации. Но можно утверждать, что это наиболее общий случай. То оно запрещается, то осуждается; то запрещение, которому оно подвергается, строго и безусловно, то оно допускает послабления и исключения. Но все аналогии позволяют думать, что ни право, ни мораль никогда не относились безразлично к самоубийству; оно всегда имело достаточно серьезное значение, чтобы привлекать к себе внимание общественного сознания. Во всяком случае несомненно, что наклонность к самоубийству, более или менее сильная, всегда существовала у европейских народов; о последнем столетии нам свидетельствует статистика, а о предыдущих эпохах — юридические памятники. Таким образом, самоубийство входит составным элементом в нормальный строй как европейского, так, вероятно, и всякого другого общества. Нетрудно показать, откуда проистекает эта постоянная связь. С особенной очевидностью она обнаруживается в альтруистическом самоубийстве первобытных обществ. Именно потому, что подчиненность индивидуума группе есть их основной принцип, альтруистическое самоубийство является здесь, так сказать, необходимым актом коллективной дисциплины. Если бы в те времена человек не относился легко к своей жизни, он не был бы тем, чем он должен был быть; а раз он мало дорожит своей жизнью, то всё, что угодно, могло служить для него поводом к самоубийству. Следовательно, существует тесная связь между практикой самоубийства и нравственным укладом общества. То же наблюдается в настоящее время в той исключительной среде, где особенно сильны самоотречение и обезличение. Еще и до сих пор военный дух может сохранять свою силу лишь при том условии, чтобы личность отреклась от самой себя, а такое самоотречение неизбежно открывает дорогу самоубийству. По противоположным причинам в обществах и средах, где достоинство личности является верховною целью поведения, где человек является богом для человека, личность довольно легко склоняется к тому, чтобы признать божеством человека, находящегося внутри ее самой, и возводит самое себя в предмет своего собственного культа. Когда мораль стремится прежде всего дать личности очень высокую идею о ней самой, достаточно известной комбинации обстоятельства, чтобы эта личность сделалась неспособной признавать что-либо выше себя. Индивидуализм, несомненно, не есть непременно эгоизм, но он приближается к нему; нельзя поощрять одно, не содействуя росту другого. Таким образом возникает эгоистическое самоубийство. Наконец, у народов, где прогресс бывает и должен быть быстрым, правила, которые сдерживают личность, должны быть достаточно гибкими и растяжимыми; если они сохраняются со строгой неизменностью, как это имеет место в первобытных обществах, скованная в своем течении эволюция не может совершаться с достаточной быстротой. Но страсти и самолюбия, при малейшем ослаблении сдержки, неизбежно прорвутся в известных пунктах. С того момента, как людям внушили, что прогресс является их обязанностью, сделалось гораздо труднее держать их в покорности; вследствие этого число недовольных и беспокойных не перестает увеличиваться. Всякая мораль прогресса и совершенствования неотделима поэтому от известной степени аномии. Таким образом, каждому типу самоубийства соответствует своя, согласующаяся с ним моральная организация. Одно не может быть без другого; ибо самоубийство есть просто форма, которую неизбежно принимает каждая из них в известных частных условиях и которая не может не проявляться. Но, скажут нам, эти различные течения могут обусловливать самоубийства только в том случае, если они доведены до крайности; но разве невозможно сделать так, чтобы они повсюду приобрели одну и ту же умеренную интенсивность? Стремиться к этому значило бы желать, чтобы условия жизни стали повсюду одинаковыми: это и невозможно, и нежелательно. Во всяком обществе встречаются отдельные группы, куда коллективные переживания проникают, только видоизменившись. Для того чтобы какое-либо течение имело по всей стране известную интенсивность, необходимо, чтобы в одних местах оно превышало, в других же не достигало среднего уровня. Но эти отклонения в ту или иную сторону не только неизбежны: они, в известной мере, и полезны. В самом деле, если наиболее распространенное состояние вместе с тем является и таким, которое лучше всего соответствует наиболее обычным условиям социальной жизни, оно не может согласоваться с иными условиями; а общество тем не менее должно иметь возможность приспособляться как к первым, так и ко вторым. Человек, у которого жажда деятельности никогда не может превзойти среднего уровня, не может устоять в положениях, требующих исключительных усилий. Точно так же общество, где интеллектуальный индивидуализм не мог бы достигнуть своих крайностей, не было бы способно стряхнуть с себя иго традиций и обновить свои верования, даже когда это становится необходимым. И обратно, там. где такое же состояние умов не могло бы, в известных случаях, достаточно ослабнуть и дать дорогу противоположному течению, что сталось бы там в военное время, когда пассивное повиновение является первым долгом? Но для того, чтобы эти формы деятельности могли проявиться, когда они необходимы, надо, чтобы общество не обесценило их окончательно. Поэтому неизбежно, чтобы они имели свое место в общественном существовании; чтобы были как сферы, где культивируется дух непримиримой критики и свободного исследования, так и другие — например, армия, где сохраняется почти в полной неприкосновенности древняя религия авторитета. Без сомнения, в обычное время действие этих очагов не должно распространяться за известные пределы; так как чувства, вырабатывающиеся в них, соответствуют особым условиям, то является существенным, чтобы они не обобщались. Но если важно, чтобы они оставались локализированными, не менее важно, чтобы они существовали. Эта необходимость окажется еще более очевидной, если принять во внимание, что общества не только должны справляться с различными положениями в течение одного и того же периода, но, кроме того, не могут вообще сохраняться, не преобразуясь. Нормальные пропорции индивидуализма и альтруизма, соответствующие современным нациям, не остаются неизменными на протяжении даже одного столетия. Будущее не было бы возможным, если бы его зародыши не были даны в настоящем. Для того чтобы какая-либо коллективная тенденция могла ослабеть или усилиться в своем развитии, она не должна быть зафиксирована раз навсегда в единственной форме, не поддающейся изменению; она не была бы в состоянии варьировать во времени, если бы она не представляла никаких вариаций в пространстве. Разновидности коллективной печали, производные от установленных нами трех моральных состояний, не лишены своего права на существование, если только они не чрезмерны. Ошибочно думать, чтобы беспримесная радость была нормальным состоянием человеческого самочувствия. Человек не мог бы жить, если бы печаль не имела над ним никакой власти. Существует много страданий, приспособиться к которым можно, лишь полюбив их, и удовольствие, получаемое при этом от этих страданий, конечно, носит оттенок меланхолии. Меланхолия поэтому бывает болезненным состоянием лишь в том случае, когда она занимает слишком много места в жизни; но не меньшую ненормальность представляет и случай ее полного отсутствия. Нужно, чтобы стремление к веселому раздолью умерялось противоположным стремлением, и только при этом условии радость не перейдет границ и будет в гармонии с реальной действительностью. Это имеет силу не только по отношению к индивидуумам, но и по отношению к общественному целому. Слишком веселая мораль бывает моралью разложения; она пригодна лишь для народов, вступивших на путь упадка, и только у них одних можно ее встретить. Жизнь часто тяжела, часто обманчива или пуста. Необходимо, чтобы коллективное чувство отразило и эту сторону существования. Поэтому наряду с оптимистической струей, заставляющей людей смотреть на мир с доверием, необходимо и противоположное течение, без сомнения, менее сильное и менее распространенное, чем первое, но могущее, однако, отчасти парализовать оптимизм; ибо ни одна тенденция не в состоянии сама положить себе границ, но может быть ограничена лишь благодаря существованию другой тенденции. Некоторые данные показывают даже, что, по-видимому, наклонность к известной меланхолии скорее увеличивается по мере того, как общество поднимается выше по лестнице социальных типов. Как мы уже говорили, существует один факт, заслуживающий по меньшей мере внимания: великие религии наиболее цивилизованных народов более глубоко проникнуты грустью, чем более простые верования предшествующих обществ. Конечно, это не значит, что пессимистическое течение должно в конце концов поглотить оптимизм, но это служит доказательством того, что оно не теряет почвы под ногами и, по-видимому, ему не суждено исчезнуть. А для того, чтобы оно могло существовать и бороться за свое существование, необходима наличность в обществе специального органа, служащего ему субстратом. Необходимо, чтобы были группы индивидуумов, представляющих специально это общественное настроение. И, конечно, часть населения, играющая подобную роль, будет именно той частью, среди которой легко зарождается мысль о самоубийстве. Но из того, что течение, нарождающее с известной интенсивностью самоубийства, должно быть рассматриваемо как явление нормальной социологии, еще не следует, что всякое течение этого рода неизбежно будет носить тот же самый характер. Если дух самоотречения, любовь к прогрессу, стремление к индивидуализации имеют место во всех видах общества и если их существование неизбежно связано, в некоторых отношениях с зарождением мысли о самоубийстве, то этим свойством они все-таки обладают лишь в известной мере, особой для каждого народа. Свойство это имеет место лишь в том случае, когда эти чувства не переходят границ. Точно так же и коллективная наклонность к печали представляет собой здоровое явление лишь при том условии, если она не является преобладающим течением. Следовательно, и вопрос о том, нормален или ненормален современный уровень самоубийства у цивилизованных народов, не разрешается тем, что было сказано выше. Нужно еще исследовать, нет ли патологического характера в огромном увеличении числа самоубийств, происшедшем за последнее столетие. Говорят, что это составляет как бы плату за цивилизацию. Известно, что это увеличение имеет место во всей Европе и тем более сильно выражено, чем выше данный народ в культурном отношении. В самом деле, оно составляет 411% для Пруссии за время с 1826 по 1890 г., 385% для Франции с 1826 по 1888 г., 318% для немецкой Австрии с 1841 — 1845 по 1877 г., 238% для Саксонии с 1841 по 1875 г., 212% для Бельгии с 1841 по 1889г., всего 72% для Швеции с 1841 по 1871 — 1875гг., 35% для Дании в течение того же периода. В Италии с 1870 г., т. е. с момента, когда она стала одним из участников европейской цивилизации, число самоубийств возросло с 788 случаев до 1653, что дает увеличение на 109% за двадцать лет. Кроме того, повсюду самоубийства наиболее часто наблюдаются в самых культурных районах. Можно было бы даже подумать, что существует связь между прогрессом просвещения и ростом числа самоубийств, что одно не может развиваться без другого. Это утверждение аналогично положению того итальянского криминалиста, который думает, что увеличение преступлений имеет своей причиной параллельное увеличение количества экономических сношений, являющихся в то же время вознаграждением за рост преступности. Принимая это положение, пришлось бы прийти к выводу, что строение, свойственное высшим видам общества, заключает в себе исключительный стимул к возникновению настроений, вызывающих самоубийство; следовательно, пришлось бы признать необходимым и нормальным их современную страшную силу развития, и тогда нельзя было бы принимать против них никаких особых мер, не борясь в то же время и против цивилизации. Но имеется немало фактов, заставляющих нас относиться с большой осторожностью к этому рассуждению. В Риме, когда империя достигла своего апогея, тоже была настоящая гекатомба добровольных смертей. Поэтому можно было бы тогда утверждать, как и теперь, что это было ценой за достигнутое интеллектуальное развитие и что для культурных народов закономерно большое количество жертв, приносимых самоубийству. Но последующая история показала, насколько подобная индукция была бы малоосновательна; ибо эта эпидемия самоубийств длилась лишь известный период, тогда как римская культура была долговечнее. Христианское общество не только подобрало себе лучшие плоды, но с XVI столетия, после изобретения книгопечатания, после эпохи Возрождения и Реформации, это общество намного превзошло самый высокий уровень, какой только был достигнут античным миром. И однако, до XVIII столетия замечалось лишь развитие самоубийств. Следовательно, вовсе не было необходимости в том, чтобы во имя прогресса проливалось столько крови, ибо плоды этого прогресса могли быть сохранены и даже превзойдены, не производя столь человекоубийственного влияния. Но в таком случае ведь возможно, что и теперь совершается то же самое, что шествие вперед нашей цивилизации и развитие самоубийства не связаны логически между собой и что, следовательно, можно задержать последнее, не останавливая в то же время первого. К тому же мы видели, что самоубийство встречается, начиная с первых этапов эволюции, и что даже иногда оно обладает там крайней заразительностью. А если самоубийства существуют среди самых диких народов, нет никакого основания думать, что оно связано необходимым соотношением с крайней утонченностью нравов. Без сомнения, типы самоубийства, наблюдавшиеся в эти отдаленные эпохи, частью исчезли; но это исчезновение должно было бы облегчить немного нашу ежегодную дань, и тем более удивительно, что эта дань делается все более и более тяжелой. Поэтому можно думать, что увеличение вытекает не из существа прогресса, а из особых условий, в которых осуществляется прогресс в наше время, и ничто не доказывает нам, что эти условия нормальны. Ибо не нужно ослепляться блестящим развитием наук, искусств и промышленности, свидетелями которого мы являемся. Нельзя отрицать, что оно совершается среди болезненного возбуждения, печальные последствия которого ощущает каждый из нас. Поэтому очень возможно и даже вероятно, что прогрессивное увеличение числа самоубийств происходит от патологического состояния, сопровождающего теперь ход цивилизации, но не являющегося его необходимым условием. Быстрота, с которой возрастало число самоубийств, не допускает даже другой гипотезы. В самом деле, менее чем в 50 лет оно утроилось, учетверилось, даже упятерилось, смотря по стране. С другой стороны, мы знаем, что самоубийства вытекают из самых существенных элементов в строении общества, так как они выражают собой темперамент, а темперамент народов, как и отдельных лиц, отражает самое основное в состоянии организма. Наша социальная организация должна была глубоко измениться в течение этого столетия для того, чтобы быть в состоянии вызвать подобное увеличение процента самоубийств. И невозможно, чтобы столь важное и столь быстрое изменение не было болезненным явлением; ибо общество не в состоянии с такой внезапностью изменить свою структуру. Только вследствие медленных и почти нечувствительных перемен может оно приобрести иной характер. Да и возможные изменения ограничены в своих размерах. Раз социальный тип получил окончательную форму, он не обладает безграничной пластичностью; быстро достигается известный предел, которого нельзя перейти. Поэтому не могут быть нормальными и те изменения, наличность которых предполагает статистика современных самоубийств. Не зная даже точно, в чем они состоят, можно заранее утверждать, что они вытекают не из нормальной эволюции, а из болезненного потрясения, сумевшего подорвать корни прежних установлений, но оказавшегося не в силах заменить их чем-нибудь новым; и не в короткий промежуток времени можно восстановить работу веков. Растущий прилив добровольных смертей зависит, следовательно, не от увеличения блеска нашей цивилизации, а от состояния кризиса и ломки, которые, продолжаясь, не могут не внушать опасений. К этим разного рода доводам можно прибавить и еще один довод. Если истинно положение, что при нормальных условиях коллективная печаль имеет свое определенное место в жизни общества, то обыкновенно она не носит настолько интенсивного и всеобщего характера, чтобы быть в состоянии проникать до высших центров социального тела. Она остается на положении подсознательного настроения, которое смутно ощущается коллективным субъектом, действию которого этот субъект, следовательно, подчиняется, но в котором он не отдает себе ясного отчета. По крайней мере этому неопределенному настроению удается овладевать общественным сознанием лишь в форме частичных и прерывистых вспышек. И выражается это настроение главным образом в виде отрывочных суждений, изолированных положений, не связанных друг с другом, могущих, вопреки их абсолютной форме, отразить лишь одну какую-нибудь сторону действительности, воспринимая поправки и дополнения из сферы постулатов противоположного характера. Из этого источника и проистекают все те меланхолические афоризмы, все те пословицы, направленные на осуждение жизни, в которых иногда проявляется народная мудрость. Но они встречаются не в большем количестве, чем противоположные им по духу поговорки. Они выражают, очевидно, мимолетные впечатления, лишь проходящие через поле сознания, но не занимающие его целиком. И только в тех случаях, когда подобные чувства приобретают исключительную силу, они начинают занимать общественное внимание в такой мере, что их можно разглядеть в их целом, в полном и систематическом согласовании друг с другом,— и тогда они делаются основой для всей философии жизни. В самом деле, в Риме и в Греции проникнутые отчаянием теории Эпикура и Зенона появились лишь тогда, когда общество почувствовало себя серьезно больным. Образование этих великих систем было, следовательно, признаком того, что пессимистическое настроение достигло ненормально больших размеров вследствие каких-то пертурбаций в социальном организме. А ведь сколько таких теорий имеется в наше время! Для верного представления об их численности и значении недостаточно принимать во внимание лишь философские системы, носящие официально пессимистический характер, вроде учений Шопенгауэра, Гартмана и т. д. Нужно считаться и со всеми теориями, которые, под различными именами являлись предшественницами этого направления. Анархист, эстет, мистик, социалист-революционер, если они без отчаяния смотрят на будущее, все-таки подают руку пессимисту в одном и том же чувстве ненависти или презрения ко всему существующему, в одной и той же потребности разрушения действительности или удаления от нее. Если бы общественное сознание не приняло болезненного направления, мы бы не имели такого подъема коллективной меланхолии; и следовательно, развитие самоубийств, вытекающее из этого же состояния общественного сознания, имеет также болезненный характер. Итак, все доводы в полном согласии между собой говорят нам, что непомерное возрастание добровольных смертей, имеющее место за последнее столетие, нужно рассматривать как патологическое явление, становящееся с каждым днем все опаснее. К каким же средствам нужно прибегнуть для борьбы с ним? Некоторые авторы рекомендуют восстановить угрозу наказаний, которые некогда были в ходу. Мы охотно допускаем, что наша современная снисходительность по отношению к самоубийству заходит слишком далеко. Так как оно оскорбляет нравственное чувство, то его следовало бы отвергать с большей энергией и с большей определенностью, и это порицание должно было бы выражаться во внешних и точных формах, т. е. в форме наказаний. Ослабление нашей репрессивной системы в этом пункте есть явление аномальное. Но с другой стороны, наказания сколько-нибудь суровые невозможны: общественное сознание их не допустит. Ибо самоубийство, как мы видели, родственно настоящим добродетелям и является только их преувеличенной формой. Общественное мнение поэтому далеко не единогласно в своем суде над ним. Так как самоубийство до известной степени связано с чувствами, которые общество уважает, то оно не может порицать его без оговорок и без колебаний. Этим объясняется вечное возобновление спора между теоретиками по вопросу о том, противно ли самоубийство морали или нет. Так как самоубийство непрерывным рядом промежуточных степеней связано с актами, которые мораль одобряет или терпит, то нет ничего удивительного, что ему иногда приписывали одинаковый с этими актами характер и что предлагали относиться к нему с той же терпимостью. Подобное колебание лишь чрезвычайно редко проявляется по отношению к убийству или к краже, потому что здесь демаркационная линия проведена более резко. Кроме того, один тот факт, что жертва пресекла свою жизнь, внушает, несмотря ни на что, слишком большую жалость, чтобы порицание могло быть беспощадным. По всем этим соображениям, установить можно было бы лишь чисто моральные наказания. Единственное, что возможно, это—лишить самоубийцу почестей правильного погребения, лишить покушавшегося на самоубийство некоторых гражданских, политических или семейных прав, например некоторых родительских прав или права быть избранным на общественные должности. Общественное мнение, нам кажется, легко согласится на то, чтобы человек, пытавшийся уйти от главных своих обязанностей, пострадал в соответственных правах. Но как бы ни были законны эти меры, они никогда не будут иметь решающего влияния. Было бы ребячеством думать, что они в силах остановить такое сильное течение. К тому же сами по себе эти меры не коснулись бы корней зла. В самом деле, если мы отказались запретить законом самоубийство, это значит, что мы слишком слабо чувствуем его безнравственность. Мы даем ему развиваться на свободе, потому что оно не возмущает нас в такой степени, как это было когда-то. Но никакими законодательными мерами не удастся, конечно, пробудить нашу моральную чувствительность. Не от законодателя зависит, что тот или иной факт кажется нам морально возмутительным или нет. Когда закон воспрещает акты, которые общественное мнение находит невинными, то нас возмущает закон, а не наказуемое деяние. Наша чрезмерная терпимость по отношению к самоубийству объясняется тем, что порождающее его душевное настроение стало общим и мы не можем его осуждать, не осуждая самих себя. Мы слишком им пропитаны, чтобы хоть отчасти не прощать его. Но в таком случае единственное для нас средство стать более суровыми это — воздействовать непосредственно на пессимистический поток, ввести его в нормальные берега и не давать ему из них выходить, вырвать общественную совесть из-под его влияния и укрепить ее. Когда она вновь обретет свою моральную точку опоры, она подобающим образом будет реагировать на все, что ее оскорбляет. Не нужно будет изобретать системы репрессивных мер — эта система установится сама собой под давлением потребностей. А до тех пор будет искусственной и, следовательно, бесполезной. Не является ли, однако, воспитание самым верным средством достигнуть этого результата? Так как оно дает возможность воздействовать на характеры, то не может ли оно сделать их более мужественными и, следовательно, менее снисходительными к людям, теряющим мужество? Так думал Морселли. По его мнению, все профилактическое лечение самоубийства выражается следующей формулой: «Развивать у человека способность координировать свои идеи и свои чувства, чтоб он был в состоянии преследовать определенную цель в жизни; словом, дать моральному характеру силу и энергию». К тому же заключению приходит мыслитель совсем другой школы. «Как подрезать самоубийство в корне?» — спрашивает Франк. «Совершенствуя великое дело воспитания, развивая не только умы, но и характеры, не только идеи, но и убеждения»,— отвечает он. Но это значит приписывать воспитанию власть, какой оно не
имеет. Оно не больше как образ и подобие общества. Оно подражает ему, его
воспроизводит, но не создает его. Воспитание бывает здоровым, когда Мы знаем эти причины. Мы определили их, когда указали, какими источниками питаются течения, несущие с собой самоубийства. Среди этих течений есть, однако, одно, которое, несомненно, ничем не повинно в современном усилении числа самоубийств: это — течение альтруистическое. В самом деле, в настоящее время оно скорее теряет силу, чем выигрывает, и наблюдать его можно главным образом в низших обществах. Если оно еще удерживается в армии, то и там его интенсивность не представляет ничего аномального. До известной степени оно необходимо для поддержания военного духа, но даже и там оно все больше и больше идет на убыль. Остается только эгоистическое самоубийство и самоубийство анемичное, развитие которых можно считать ненормальным, и только на этих двух формах нам необходимо сосредоточить свое внимание. Эгоистическое самоубийство является результатом
того, что общество не сохранило достаточной цельности во всех своих частях,
чтобы удержать всех членов под своею властью. Если этот разряд самоубийств
слишком усилился, это значит, что и то состояние общества, которым он
вызывается, чересчур усилилось, что слишком много членов слишком полно
ускользают из-под власти расстроенного и ослабевшего общества. А потому
единственное средство помочь злу, это — сделать социальные группы снова
достаточно сплоченными, чтобы они крепче держали индивида и чтобы индивид
крепче держался за них. Нужно, чтобы он сильнее чувствовал свою солидарность с
коллективным существом, которое предшествует ему по времени, которое переживет
его, которое окружает его со всех сторон. При этом условии он перестанет искать
в себе самом единственную цель своей деятельности и, поняв, что он орудие для
достижения цели, которая лежит выше его, он поймет также, что он имеет известное
значение. Жизнь снова приобретет смысл в его глазах, потому что она вновь
найдет свою естественную цель и свое естественное направление. Но какие группы
всего более способны непрерывно толкать человека к этому спасительному чувству
солидарности? Не политическое общество. Особенно в настоящее время, в наших
огромных новейших государствах оно слишком далеко стоит от личности, чтобы с
достаточной последовательностью серьезно влиять на нее. Какова бы ни была
связь между нашей повседневной работой и совокупностью общественной жизни, она
слишком косвенного свойства, чтобы ощущаться нами непрерывно и отчетливо. Лишь
в тех случаях, когда затронуты крупные интересы, мы живо чувствуем свою
зависимость от политического коллектива. Конечно, у тех, кто составляет
моральный цвет населения, редко бывает, чтобы совершенно отсутствовала идея
отечества, но в обычное время она остается в полумраке, в состоянии смутного
представления, а бывает, что она и совсем затмевается. Нужны исключительные
обстоятельства, какой-нибудь крупный политический или социальный кризис, чтобы
она выступила на первый план, овладела умами и стала направляющим двигателем
поведения. Но не такое редко проявляющееся воздействие может сыграть роль
постоянного тормоза для склонности к самоубийству. Необходимо, чтобы не
изредка только, но в каждый момент своей жизни индивид сознавал, что его
деятельность имеет цель. Чтобы его существование не казалось ему пустым, он
постоянно должен видеть, что жизнь его служит цели, которая непосредственно
его касается. Но это возможно лишь в том случае, когда более простая и менее
обширная социальная среда теснее окружает его и предлагает более близкую цель
его деятельности. Религиозное общество также непригодно для этой функции. Мы
не хотим, конечно, сказать, чтобы оно в известных условиях не могло оказывать
благодетельного влияния; но дело в том, что условий, необходимых для этого
влияния, нет теперь в наличности. В самом деле, оно предохраняет от
самоубийства лишь в том случае, когда оно, это религиозное общество, обладает
могучей организацией, плотно охватывающей индивида. Так как католическая
религия налагает на верующих обширную систему догматов и обрядов и проникает
таким образом во все подробности их существования, даже их мирской жизни, она сильнее
привязывает их к жизни, чем протестантизм. Католик меньше подвергается
возможности забыть о своей связи с вероисповедной группой, потому что эта
группа ежеминутно ему напоминает о себе в форме императивных предписаний,
которые касаются самых различных сторон жизни. Ему не приходится с тоской
спрашивать себя, куда ведут его поступки; он все их относит к Богу, потому что
они большей частью регулируются Богом, т. е. его воплощением — церковью. И так
как считается, что эти предписания исходят от власти сверхчеловеческой,
человеческий разум не имеет права их касаться. Было бы грубым противоречием
приписывать им подобное происхождение и в то же время разрешить свободную
критику. Итак, религия ослабляет склонность к самоубийству лишь в той мере, в
какой она мешает человеку свободно мыслить. Но подобное ограничение
индивидуального разума в настоящее время дело трудное и с каждым днем
становится труднее. Оно оскорбляет наши самые дорогие чувства. Мы все больше и
больше отказываемся допускать, чтоб можно было указать границы разуму и
сказать ему: дальше ты не пойдешь. И движение это началось не со вчерашнего
дня: история человеческого духа есть в то же время история развития свободной
мысли. Было бы ребячеством пытаться остановить движение, явно неудержимое.
Если только современные обширные общества не разложатся безвозвратно и мы не
возвратимся к маленьким социальным группам былых времен, т. е. если только
человечество не возвратится к своему отправному пункту, религии больше не в силах
будут оказывать очень обширного или очень глубокого влияния на умы. Это не
значит, что не будут основывать новых
религий. Но единственно жизненными будут те, которые отведут свободному
исследованию и индивидуальной инициативе еще больше места, чем даже самые
либеральные протестантские секты. И именно поэтому они не будут оказывать на
своих членов того сильного давления, какое необходимо, чтоб поставить преграду
самоубийству. Если многие писатели видели в восстановлении религии единственное лекарство против зла, то это объясняется тем, что они ошибались насчет источников ее власти. Они сводят почти всю религию к известному числу высоких мыслей и благородных правил, с которыми в конце концов мог бы примириться и рационализм, и думают, что достаточно было бы укрепить их в сердцах и умах людей, чтобы предупредить их моральное падение. Но они ошибаются как относительно того, что составляет сущность религии, так — и в особенности— относительно причин иммунитета, который религия иногда давала против самоубийства. Она достигала этого не тем, что поддерживала в человеке какое-то смутное чувство чего-то таинственного и непостижимого, но тем, что подвергала его поведение и мысль суровой дисциплине во всех мелочах. Когда же она является только символическим идеализмом, только философией, переданной по традиции, но которую можно оспаривать и которая более или менее чужда нашим повседневным занятиям, ей трудно иметь на нас большое влияние. Божество, которое своим величием поставлено вне мира и всего мирского, не может служить целью нашей мирской деятельности, и она оказывается без цели. Слишком много вещей стоит в этом случае вне связи с Божеством, для того чтобы оно могло дать смысл жизни. Представив нам мир как недостойный его, оно тем самым предоставило нас самим себе во всем, что касается жизни мира. Не при помощи размышлений об окружающих нас тайнах и даже не при помощи веры в существо, всемогущее, но бесконечно от нас далекое и требующее от нас отчета лишь в неопределенном будущем, можно помешать людям кончать с жизнью. Словом, мы предохранены от самоубийства лишь в той мере, в какой мы социализированы. Религии могут нас социализовать лишь в той мере, в какой они лишают нас права свободного исследования. Но они больше не имеют и, по всей вероятности, никогда больше не будут иметь в наших глазах достаточно авторитета, чтобы добиться от нас подобной жертвы. Не на них, следовательно, надо рассчитывать в борьбе с самоубийством. Впрочем, если бы те, кто видит в восстановлении религии единственное средство излечить нас, были последовательны, они должны были бы требовать восстановления самых архаических религий. Ведь иудаизм лучше предохраняет от самоубийства, чем католичество, а католичество—лучше, чем протестантизм. И однако, протестантская религия наиболее свободна от материальных обрядов, следовательно — наиболее идеалистична. Наоборот, иудаизм, несмотря на свою великую историческую роль, многими сторонами связан с наиболее первобытными религиозными формами. Уже из этого видно, что моральное и интеллектуальное превосходство догмы не имеет никакого отношения к тому влиянию, которое она в состоянии оказать на самоубийство. Остается семья, профилактическая роль которой не подлежит сомнению. Но было бы иллюзией думать, что достаточно уменьшить число холостяков, чтобы остановить развитие самоубийств. В самом деле, если женатые имеют меньшую тенденцию убивать себя, то сама эта тенденция усиливается с той же правильностью и в той же пропорции, что и у холостых. С 1880 по 1887 г. число самоубийств среди женатых возросло на 35% (с 2735 на 3706), среди холостых — только на 13% (с 2554 на 2894). По вычислениям Бертильона, в 1863—1868 гг. относительное число первых было 154 на 1 млн, в 1887 г. оно было 242, т. е. возросло на 57%. В течение того же промежутка времени пропорция самоубийц-холостяков возросла не намного больше — с 173 на 289, т. е. на 67%. Увеличение числа самоубийц в течение века не зависит от их семейного положения. Надо заметить, что в семейном строе совершились изменения, которые мешают семье оказывать прежнее предохранительное влияние. Тогда как в прежнее время она удерживала в своей орбите большую часть своих членов от рождения до смерти и представляла компактную, неделимую массу, одаренную своего рода вечностью, в настоящее время ее существование очень эфемерно. Едва образовавшись, семья уже рассыпается. Лишь только дети подросли, они чаще всего продолжают свое воспитание вне дома; как только они стали взрослыми, они устраиваются вдали от родителей, и семейный очаг пустеет. Это почти общее правило. Можно сказать, что в настоящее время семья, в течение большей части своего существования, состоит только из мужа и жены, а мы знаем, как это мало противодействует самоубийству. Занимая, таким образом, малое место в жизни, семья не может более служить ей достаточной целью. Не то чтобы мы меньше любили своих детей, но они не так тесно, не так неразрывно связаны с нашим существованием, и наша жизнь поэтому должна найти для себя другой смысл. Так как наши дети меньше живут с нами, то нам необходимо связать свои мысли и поступки с другими объектами. И прежде всего это периодическое рассеивание сводит на нет семью как коллектив. Некогда семейное общество представляло не простое собрание лиц, объединенных узами взаимной привязанности,— это была в то же время группа в ее абстрактном и безличном единстве. Это было наследственное имя, связанное с целым рядом воспоминаний, с фамильным домом, с землей предков, с исстари установившимся положением и репутацией. Все это исчезает понемногу. Общество, которое каждую минуту распадается, . чтобы вновь образоваться в другом месте, в совершенно новых условиях и из совершенно иных элементов, не имеет достаточно преемственности, чтобы приобрести собственную физиономию, чтобы создать собственную историю, к которой его члены могли бы быть привязаны. Если люди не заменят чем-нибудь эту старую цель своей деятельности, по мере того как она от них уходит, то необходимо образуется большая пустота в их жизни. Эта причина усиливает самоубийство не только женатых, но и холостяков, так как подобное состояние семьи заставляет молодых людей покидать родную семью раньше, чем они в состоянии основать собственную. Отчасти по этой причине все больше растет число одиноких людей, и мы видели, что подобное одиночество усиливает наклонность к самоубийству. И однако, ничто не может остановить этого движения. В старое время, когда каждая местная среда была более или менее замкнута для других благодаря обычаям, традициям, отсутствию путей сообщения, каждое поколение поневоле оставалось на родных местах или в крайнем случае недалеко от них уходило. Но по мере того, как эти барьеры падают, как отдельные среды нивелируются и перемешиваются, индивиды неизбежно рассыпаются на огромные открытые им пространства, преследуя свои личные цели или, вернее, интересы. Никакими искусственными мерами нельзя помешать этому необходимому распылению и возвратить семье ту цельность, которая составляла ее силу. III Итак, это зло неизлечимое? Так можно было бы подумать на первый взгляд, что из всех обществ, которые, как мы выше показали, оказывают благодетельное влияние, нет ни одного, которое могло бы теперь принести действительное исцеление. Мы показали в то же время, что если религия, семья, отечество предохраняют от эгоистического самоубийства, то причину тому надо искать не в особенном характере чувств, которые каждая из них развивает. Наоборот, они обязаны этим своим свойством тому общему факту, что они являются обществами и обладают им в той мере, в какой они являются обществами, правильно сплоченными, т. е. без излишеств в одну или другую сторону. Поэтому всякая другая группа может оказывать подобное же влияние, если только она отличается подобной же сплоченностью. Кроме общества религиозного, семейного, политического, существует еще одно, о котором до сих пор у нас еще не было речи: это — общество, которое образуют, соединившись между собой, все работники одного порядка, все сотрудники в одной функции, это — профессиональная группа или корпорация. Что она может играть подобную роль, это вытекает уже из самого ее определения. Так как она состоит из индивидов, которые занимаются одинаковым трудом и интересы которых солидарны и даже сливаются, то она представляет самую благодатную почву для развития социальных идей и чувств. Одинаковость происхождения, культуры и занятий приводит к тому, что профессиональная деятельность представляет самый богатый материал для совместной жизни. Впрочем, корпорация уже показала в прошлом, что она может являться коллективной личностью, ревниво, даже чересчур ревниво оберегающей свою автономию и власть над своими членами, поэтому нет сомнения, что она может являться для них моральной средой. Нет основания, чтобы корпоративный интерес не приобрел в глазах работников того высшего характера, каким всегда обладает интерес социальный сравнительно с частными интересами во всяком хорошо организованном обществе. С другой стороны, профессиональная группа имеет над всеми другими тройное преимущество: ее власть проявляет себя ежеминутно, повсеместно и охватывает почти всю жизнь. Эта группа влияет на индивидов не с перерывами, как политическое общество,— она никогда с ними не расстается уже в силу того, что никогда не прекращается функция, органом которой она является и в отправлении которой они участвуют. Она следует за работниками всюду, куда бы они ни переместились, чего не может делать семья. Где бы они ни были, они находят ее, она окружает их, напоминает им об их обязанностях, поддерживает их, когда надо. Наконец, так как профессиональная жизнь есть почти вся жизнь, то влияние корпорации дает себя чувствовать в каждой мелочи наших занятий, которые, таким образом, направляются в сторону коллективной цели. Корпорация обладает, таким образом, всем, что нужно, чтобы охватить индивида и вырвать его из состояния морального одиночества, а ввиду нынешней слабости других групп только она одна может исполнять эту необходимую службу. Но для того, чтобы она имела подобное влияние, необходимо организовать ее на совершенно других основаниях, чем в настоящее время. Прежде всего существенно важно, чтобы она перестала быть частной группой, которую закон разрешает, но государство игнорирует, и чтобы она стала определенным и признанным органом нашей общественной жизни. Нет необходимости сделать ее обязательной, но важно — организовать ее так, чтобы она могла играть социальную роль, а не просто выражать различные комбинации частных интересов. Это не все. Чтобы группа не была пустой формой, надо заронить в нее семена жизни, которые могут в ней развиваться. Чтобы она не была простой этикеткой, нужно возложить на нее определенные функции, и есть такие функции, которые она может выполнять лучше всякой другой группы. В настоящее время европейские общества стоят перед альтернативой: оставить профессиональную жизнь без регламентации или же регламентировать ее при помощи государства, так как нет другой правильной власти, которая могла бы играть роль регулятора. Но государство стоит слишком далеко от этих сложных явлений, чтобы оно умело найти для каждого из них соответственную специальную форму. Это тяжелая машина, которая годится только для общих и простых работ. Ее всегда однообразная деятельность не может приспособляться к бесконечному разнообразию частных обстоятельств. Она поневоле все придавливает и нивелирует. Но с другой стороны, мы живо чувствуем, что нельзя оставлять в неорганизованном виде всю ту жизнь, которая проложила себе путь в профессиональных союзах. Вот почему путем бесконечных колебаний мы по очереди переходим от авторитарной регламентации, которая бессильна вследствие своей чрезвычайной прямолинейности, к систематическому невмешательству, которое не может долго продолжаться ввиду порождаемой им анархии. Идет ли речь о длине рабочего дня, о гигиене, о заработной плате, о сберегательных, страховых или филантропических учреждениях, повсюду добрая воля наталкивается на то же затруднение. Как только пытаются установить какие-нибудь правила, они оказываются неприменимыми на практике вследствие отсутствия гибкости, или же их можно применить, лишь совершая насилие над делом, которому они должны служить. Единственный способ выйти из этой альтернативы, это — организовать вне государства, хотя и под его ведомством, пучок коллективных сил, регулирующее влияние которых могло бы проявляться с большим разнообразием. Возродившиеся корпорации вполне отвечают этому условию, и мы не видим даже, какие другие группы могли бы ему соответствовать. Корпорации стоят достаточно близко к фактам, достаточно непосредственно и достаточно постоянно приходят в соприкосновение с ними, чтобы чувствовать все их оттенки, и они должны быть достаточно автономны, чтобы не подавлять этого разнообразия. Они должны были бы заведовать кассами страхования, помощи, пенсий, потребность в которых чувствуется многими светлыми умами, но которые они не решаются, и вполне основательно, отдать в руки государства, и без того столь могущественные и столь неловкие. Корпорации же должны были бы разрешать конфликты, которые так часто возникают между различными отраслями одной и той же профессии, устанавливать для различных разрядов предприятий соответственные различные условия, которым должны удовлетворять договоры, чтобы иметь законную силу — во имя общих интересов мешать сильным эксплуатировать слабых и т. д. По мере того как развивается разделение труда, право и мораль, продолжая повсюду опираться на те же общие принципы, принимают в каждой отдельной функции различную форму. Кроме прав и обязанностей, общих всем людям, есть такие, которые зависят от специального характера каждой профессии, и число их и их важность усиливаются по мере того, как развивается и разнообразится профессиональная деятельность. Чтобы применять и поддерживать каждую специальную дисциплину, нужен специальный орган. Из кого же его составить, как не из работников, сотрудничающих в той же функции? Вот чем, в крупных чертах, должны быть корпорации, чтобы они могли оказывать услуги, которые мы вправе ждать от них. Конечно, когда видишь их современное состояние, трудно себе представить, чтобы они могли подняться когда-нибудь на высоту моральных властей. Действительно, они состоят теперь из индивидов, которых ничто не привязывает друг к другу, между которыми отношения чисто поверхностные и непостоянные, которые склонны скорее видеть в других членах корпорации соперников и врагов, а не сотрудников. Но с того дня, когда у них будет столько общих дел, когда отношения между ними и их группой станут так тесны и постоянны, у них родятся чувства солидарности, которые еще почти неизвестны, и поднимется моральная температура этой профессиональной среды, в настоящее время столь холодная и столь внешняя для ее членов. И эти перемены не произойдут, как можно было бы думать по вышеприведенным примерам, только у активных участников экономической жизни. Нет такой профессии в обществе, которая бы не требовала этой организации и не была бы способна ее принять. И тогда социальная ткань, петли которой так страшно распустились, стянется и укрепится на всем своем протяжении. Восстановление корпорации, потребность в которой ощущается всеми, к несчастью, имеет против себя скверную репутацию, которую корпорации старого режима оставили в истории. Однако тот факт, что они существовали не только начиная со средних веков, но с греко-римской эпохи, доказывает их необходимость с гораздо большей убедительностью, чем факт их недавнего уничтожения доказывает их бесполезность. Если, за исключением одного столетия, повсюду, где профессиональная деятельность достигла некоторого развития, она организовывалась корпоративно, то не является ли в высшей степени вероятным, что эта организация необходима и что если сто лет тому назад она не оказалась на высоте своей роли, то надо было ее исправить и усовершенствовать, а не радикально уничтожать? Не подлежит сомнению, что она перед концом своим стала препятствием для самых необходимых реформ. Старая корпорация, узколокальная, замкнутая для всякого внешнего влияния, стала невозможностью в морально и политически объединенной нации. Чрезмерная автономия, которой она пользовалась и которая делала ее государством в государстве, не могла удержаться в такое время, когда правительственный орган, протягивая во все стороны свои разветвления, все больше и больше подчинял себе все вторичные органы общества. Надо было расширить базу, на которой покоился этот институт, и связать его со всей национальной жизнью. Если бы, уничтожив замкнутость отдельных местных корпораций, соединить их между собою в крупные и стройные союзы, а все эти союзы подчинить общей власти государства и побудить их таким образом постоянно ощущать свою солидарность, то деспотизм рутины и профессиональный эгоизм были бы введены в свои законные рамки. Традиции гораздо труднее удержаться в неизменном виде в обширной ассоциации, раскинутой на огромном пространстве, чем в маленькой котерии, не выходящей за пределы одного города. В то же время каждая частная группа менее склонна видеть и преследовать одни свои собственные интересы, когда она находится в постоянных сношениях с направляющим центром общественной жизни. Только при этом условии можно поддерживать в умах людей идею общей цели с достаточной ясностью и постоянством. Так как сношения между каждым отдельным органом и властью, представляющей общие интересы, будут тогда непрерывны, то общество будет напоминать о себе индивидам не изредка только и не в смутной форме,— мы будем чувствовать его присутствие на всем протяжении обыденной жизни. Уничтожив то, что было, и не поставив на место разрушенного ничего нового, заменили только корпоративный эгоизм эгоизмом индивидуальным, который имеет еще более разлагающее влияние. Вот почему из всего того, что было разрушено в ту эпоху, надо жалеть только об этом одном. Разрушив единственные группы, которые могли прочно связывать между собою индивидуальные воли, мы собственными руками разбили лучшее орудие нашего морального возрождения. Указанный путь ведет к победе не над одним только эгоистическим самоубийством. Близкородственное с ним аномичное самоубийство поддается тому же лечению. Аномия является результатом такого положения, когда в известных пунктах общества нет коллективных сил, т. е. организованных групп, которые бы направляли общественную жизнь. Она, следовательно, отчасти вытекает из того же состояния распада, в котором берет начало и эгоистическое течение. Но эта же самая причина производит различные следствия в зависимости от точки ее приложения, т. е. в зависимости от того, действует ли она на активные и практические функции или же на работу представлений. Она распаляет, обостряет первые, она приводит вторую к замешательству, к растерянности. Поэтому в обоих случаях нужно одно и то же лечение. Мы видели, что главная роль корпорации в будущем, как и в прошлом, сводится к тому, чтобы регулировать социальные функции, главным образом экономические функции, т. е. к тому, чтобы вывести их из неорганизованного состояния, в котором они теперь находятся. Всякий раз, когда жадность отдельных лиц начнет переходить известные границы, корпорации надлежит установить, сколько приходится по справедливости на долю каждого разряда соучастников в деле. Занимая по отношению к своим членам высшее положение, она имеет весь нужный авторитет, чтобы требовать от них необходимых жертв и уступок и подчинения известным правилам. Препятствуя сильным пользоваться своей силой дальше известных пределов, мешая слабым выставлять чрезмерные требования, напоминая тем и другим об их взаимных обязанностях и об общем интересе, регулируя в известных случаях производство, чтобы не дать ему выродиться в болезненную, лихорадочную форму активности, она будет умерять одни страсти другими и, вводя их в границы, даст возможность установить мир. Таким образом, водворится моральная дисциплина нового типа, без которой все открытия науки и весь прогресс благосостояния могут порождать только недовольных. Мы не видим, в какой другой среде мог бы выработаться и каким другим органом мог бы применяться этот закон справедливости, столь насущно необходимый. Религия, которая некогда отчасти исполняла эту роль, не могла бы теперь с ней справиться. Если бы ей пришлось регламентировать экономическую жизнь, она могла бы руководствоваться лишь одним принципом— презрением к богатству. Когда она увещевает верующих довольствоваться своей судьбой, то делает это в силу убеждения, что условия нашего земного существования не имеют влияния на наше спасение. Когда она учит, что наш долг — покорно подчиняться судьбе, какую нам создали обстоятельства, то делает это затем, чтобы привязать нас всем существом к целям, более достойным наших усилий, и по той же причине она вообще проповедует умеренность в желаниях. Но эта пассивная покорность несовместима с тем местом, какое мирские интересы заняли ныне в коллективной жизни. Дисциплина, в которой они нуждаются, должна иметь целью не отодвигать их на задний план и сокращать елико возможно, а дать им организацию, которая бы соответствовала их важности. Задача усложнилась, и если разнузданием аппетитов нельзя помочь злу, то и простым подавлением нельзя сдержать аппетитов. Если последние защитники старых экономических теорий не правы, отрицая необходимость регламентации в настоящее время, как и в прошлое, то ошибаются и апологеты религиозной организации, полагая, что старые правила могут иметь силу в настоящее время. Именно их нынешнее бессилие и есть источник зла. Эти легкие решения вопроса совершенно не соответствуют серьезности положения. Конечно, только моральная власть импонирует людям, но она должна довольно близко стоять к делам мира сего, чтобы знать их действительную цену. Профессиональная группа отвечает обоим требованиям. Будучи группой, она тем самым достаточно возвышается над индивидами, чтобы налагать узду на их аппетиты; и в то же время она слишком живет их жизнью, чтобы не сочувствовать их нуждам. Но и государство тоже должно исполнять при этом довольно важные функции. Только онс- одно может противопоставить партикуляризму каждой корпорации сознание своей общеполезности и необходимости для органического равновесия. Но мы знаем, что его деятельность может быть полезна лишь в том случае, если существует целая система вторичных органов, которые ее разнообразно применяют. Их-то и надо прежде всего создать. Существует, однако, один разряд самоубийств, который не может быть остановлен предложенными выше мерами,— мы говорим о самоубийстве, которое является результатом брачной аномии. Здесь мы, по-видимому, находимся перед неразрешимым противоречием. Его причиной является, как мы уже говорили, институт развода с той совокупностью идей и нравов, которая его породила и которую он только санкционирует. Следует ли отсюда, что его надо уничтожить там, где он существует? Вопрос этот слишком сложен, чтобы мы его здесь рассматривали; его с пользой можно трактовать лишь в конце специального исследования о браке и его эволюции. В настоящую минуту нам нужно только заняться отношением развода к самоубийству. И с этой точки зрения мы скажем: единственное средство уменьшить число самоубийств, вызываемых брачной аномией, это — сделать брак более нерасторжимым. Есть обстоятельство, которое делает этот вопрос чрезвычайно тревожным и придает ему почти драматический интерес. Оно состоит в том, что нельзя уменьшить этим путем числа самоубийств мужей, не увеличивая его среди жен. Неужели необходимо пожертвовать одним из полов и вопрос сводится лишь к тому, чтобы выбрать меньшее из двух зол? Мы не видим другого возможного решения, до тех пор пока интересы супругов в браке останутся столь противоположными. Пока одним прежде всего нужна будет свобода, а другим дисциплина, брачный институт не может одинаково удовлетворять тех и других. Но антагонизм, делающий теперь невозможным разрешение вопроса, не вечен, и можно надеяться, что он исчезнет. Этот антагонизм порождается тем, что оба пола неодинаково участвуют в общественной жизни. В то время как муж активно в ней замешан, жена лишь присутствует при ней на почтительном расстоянии. Поэтому он социализован в гораздо большей степени, чем она. Его вкусы, стремления, настроения имеют большей частью коллективное происхождение, тогда как у жены они находятся в гораздо более непосредственной зависимости от организма. У него, таким образом, совершенно другие потребности, чем у нее, а потому невозможно, чтобы институт, который должен регулировать их общую жизнь, мог быть справедливым и удовлетворять одновременно столь противоположные требования. Он не может удовлетворять одновременно два существа, из которых одно почти все целиком продукт общества, а другое осталось в гораздо большей степени тем, чем сделала его природа. Но совершенно не доказано, чтобы эта противоположность должна была сохраниться навеки. Конечно, в известном смысле она в первобытное время была менее заметна, чем теперь, но из этого не следует, что она должна без конца развиваться. Ведь социальные состояния, самые примитивные, часто вновь возникают на самых высших стадиях эволюции, но под другими формами, почти противоположными тем, какие они имели вначале. Нет, правда, основания предполагать, чтобы женщина была когда-нибудь в состоянии исполнять в обществе те же функции, что и мужчина, но она может играть в нем роль, которая, будучи чисто женской, была бы, однако, более активной, чем ее нынешняя роль. Женщины никогда не станут подобными мужчинам; напротив, можно думать, что они будут все больше от него отличаться. Но эти различия будут больше утилизированы социально, чем это было в прошлом. Почему, например, по мере того как мужчина, все больше и больше поглощаемый утилитарной деятельностью, принужден отказываться от эстетических функций, эти последние не могут переходить к женщине? Оба пола, таким образом, сблизятся, дифференцируясь. Они будут социализироваться в равной степени, но в различных направлениях. И по-видимому, в этом именно смысле и совершается эволюция. В городах женщина больше отличается от мужчины, чем в деревнях, и, однако, в городах ее умственное и нравственное существо больше пропитано социальной жизнью. Во всяком случае, это единственное средство смягчить прискорбный моральный конфликт, существуюший между обоими полами, а что он существует, это доподлинно доказано статистикой самоубийств. Лишь когда расстояние между обеими супругами станет меньше, брак не будет обязательно благоприятствовать одной стороне во вред другой. Что касается тех, кто требует, чтобы женщине сейчас же дали равные права с мужчиной, то они забывают, что дело веков нельзя уничтожить в один миг и что к тому же это юридическое равенство не может быть законным, пока психологическое неравенство так велико. Нам надо употреблять все усилия, чтобы уменьшить это последнее. Чтобы одно и то же учреждение было в одинаковой степени благоприятно для мужчины и женщины, нужно прежде всего, чтобы они были существами одной природы. Только тогда нельзя будет больше обвинять нерасторжимость брачного союза в том, что она служит интересам одной только стороны. IV Мы знаем теперь, что причина самоубийств лежит вовсе не в затруднениях жизни и что средство остановить рост числа добровольных смертей состоит вовсе не в том, чтобы сделать борьбу менее суровой, а жизнь более легкой. Если люди убивают себя теперь чаще, чем раньше, то не потому, что нам приходится делать более тяжелые усилия для поддержания своего существования, и не потому, что наши законные потребности меньше удовлетворяются, а потому, что мы не знаем теперь ни того, где останавливаются наши законные потребности, ни того, какую цель имеет наша деятельность. Правда, конкуренция с каждым днем усиливается, потому что с каждым днем благодаря большей легкости сообщения растет число конкурентов. Но с другой стороны, более усовершенствованное разделение труда и связанное с ним более сложное сотрудничество увеличивают и бесконечно разнообразят число занятий, в которых человек может быть полезен людям, и тем умножают средства существования, делая их доступными большему разнообразию людей. Даже самые низшие способности могут найти себе место. Это усовершенствованное сотрудничество делает производство более интенсивным, увеличивает капитал ресурсов, которыми обладает человечество, обеспечивает каждому работнику более высокое вознаграждение и поддерживает таким образом равновесие между повышенным изнашиванием жизненных сил и их восстановлением. Нет сомнения, что среднее благосостояние поднялось на всех ступенях социальной иерархии, хотя, быть может, этот подъем не всегда совершался в очень справедливой пропорции. Тяжелое состояние, которое мы переживаем, вызывается не тем, что усилились в числе или в интенсивности объективные причины страданий; оно свидетельствует не о большей экономической нужде, а о тревожной нужде моральной. Следует только уяснить себе действительный смысл этого слова. Когда о каком-нибудь индивидуальном или социальном недуге говорят, что он чисто морального характера, то под этим обыкновенно разумеют, что он не поддается никакому действительному лечению, но что он может быть исправлен только частыми увещаниями, систематическими проповедями, одним словом, словесным воздействием. Рассуждают так, как будто система идей не связана с остальным миром, как будто ее можно уничтожить или создать, произнесши известным образом известные формулы. Не замечая того, применяют к явлениям духа верования и методы, которые первобытный человек применял к явлениям физического мира. Как он верил в существование магических слов, которые имеют власть превращать одно существо в другое, так и мы молчаливо допускаем, не замечая грубости этой концепции, что при помощи соответственных слов можно изменить умы и характеры. Как дикарь, энергично выражая свою волю, чтобы совершилось такое-то космическое явление, воображает, что он действительно вызывает его осуществление силой симпатической магии, так и мы думаем, что, если с жаром выскажем свое желание, чтобы совершилась такая-то перемена, она произойдет сама собой. На самом же деле духовная система народа есть система определенных сил, которую нельзя ни расстроить, ни перестроить путем простого внушения. Она связана с тем порядком, в каком сгруппированы и организованы социальные элементы. Дан народ, состоящий из известного числа индивидов, расположенных таким-то образом,— этим самым порождается определенная совокупность коллективных идей и обычаев, которые не меняются, пока сами условия, от которых они зависят, остаются прежними. В зависимости от того, состоит ли народ из большего или меньшего количества частей, координированы ли эти части по тому или другому плану, характер коллективного существа будет другой, другие будут его приемы мышления и действия, и нельзя изменить этих последних, не изменив его самого; а изменить его — значит изменить его анатомическую структуру. Назвав моральным тот недуг, симптомом которого является аномальное увеличение числа самоубийств, мы не хотим свести его до степени какого-то поверхностного недомогания, которое можно усыпить хорошими словами. Наоборот, удостоверенное этим путем искажение морального темперамента свидетельствует о глубокой испорченности нашего социального строя. Чтобы излечить первое, необходимо реформировать второй. Мы сказали, в чем, по нашему мнению, должна состоять эта реформа. Настоятельная потребность в ней окончательно доказывается не только современным состоянием самоубийства, но и всей совокупностью нашего исторического развития. Характерной чертой последнего является то, что оно мало-помалу стерло все старые социальные рамки. Они исчезали одна за другой благодаря медленному снашиванию или крупным сотрясениям, но им на смену не являлось ничего. Сначала общество было организовано на основе семьи; оно являлось соединением более мелких обществ — кланов, члены которых были или считали себя родственниками. По-видимому, эта организация недолго сохранялась в чистом виде. Довольно рано семья перестает быть политическим делением и становится центром частной жизни. Место старой семейной группировки заняла группировка территориальная. Индивиды, занимающие одну и ту же территорию, приобретают с течением времени, независимо от всякой родственной связи, общие нравы и идеи, отличающиеся от нравов и идей их более далеких соседей. Образуются таким образом маленькие агрегаты, единственной материальной базой которых служит соседство и соседские отношения, но из которых каждый имеет свою особую физиономию; это—село или, лучше, городская община с ее владениями. Большей частью они не замыкались в диком одиночестве, а вступали между собой в союзы, комбинировались в различных формах и составляли более сложные общества, но они сохраняли при этом свою личность. Они остаются элементарным сегментом, а все общество является только их увеличенной копией. Мало-помалу, по мере того как эти союзы становятся более тесными, территориальные округа сливаются между собою и теряют свою старую моральную индивидуальность. Различие между одной общиной и другой, между одним округом и другим стирается все больше и больше. Огромная реформа, совершенная французской революцией, в том и состояла, что она довела эту нивелировку до небывалой еще степени. Она не изобрела ее, потому что эта нивелировка долго подготовлялась постепенной централизацией, совершавшейся при старом режиме. Но законодательное уничтожение старых провинций, создание новых территориальных единиц, чисто искусственных и номинальных, окончательно ее санкционировало. С тех пор развитие путей сообщения, перемешав население, стерло последние следы старого порядка вещей. И так как в то же время насильственно уничтожено было все, что сохранилось от профессиональной организации, то исчезли все вторичные органы социальной жизни. Пережила бурю только одна коллективная сила — государственная власть. По необходимости она стремилась поглотить в себе все формы деятельности, носившие социальный характер, и вне ее осталась лишь пыль людская. Но тогда ей пришлось взять на себя огромное число функций, для которых она не годилась и которые плохо исполняла. Много раз уже было замечено, что ее страсть все захватывать равна только ее бессилию. Только болезненно перенапрягая свои силы, сумела она распространиться на все те явления, которые от нее ускользают и которыми она может овладеть, лишь насилуя их. Отсюда расточение сил, в котором ее упрекают и которое действительно не соответствует полученным результатам. С другой стороны, частные лица не подчинены более никакому другому коллективу, кроме нее, так как она единственная организованная коллективность. Только через посредство государства они чувствуют общество и свою зависимость от него. Но государство далеко стоит от них и не может оказывать на них близкого и непрерывного влияния. В их общественном чувстве нет поэтому ни последовательности, ни достаточной энергии. В течение большей части их жизни вокруг них нет ничего, что оторвало бы их от них самих и наложило бы на них узду. При таких условиях они неизбежно погружаются в эгоизм или в анархию. Человек не может привязаться к высшим целям и подчинить себя дисциплине, когда он не видит над собою ничего, с чем он был бы связан. Освободить его от всякого социального давления— значит предоставить его самому себе и деморализовать его. Таковы две основные черты нашего морального состояния. В то время как государство бухнет и гипертрофируется, чтобы прочно охватить индивидов, и не достигает этого, индивиды, ничем между собою не связанные, катятся друг через друга, как молекулы жидкости, не встречая никакого центра сил, который бы их удержал, прикрепил, организовал. От времени до времени, чтобы помочь злу, предлагают возвратить локальным группам некоторую долю их былой автономии,— это называют децентрализацией. Но единственной истинно полезной децентрализацией будет лишь такая, которая произведет в то же время наибольшую концентрацию социальных сил. Не ослабляя уз, которые привязывают каждую часть общества к государству, надо создать моральные власти, которые оказывали бы на толпу индивидов влияние, какого государство не имеет. Но в настоящее время ни коммуна, ни департамент не имеют в наших глазах достаточно авторитета, чтобы оказывать подобное влияние; мы видим в них только условные этикетки, лишенные всякого значения. Вообще говоря, мы предпочитаем, конечно, жить там, где родились и выросли. Но местных отечеств больше нет и быть не может. Общая жизнь страны, окончательно объединенная, не допускает подобного рассеяния. Можно жалеть о том, чего нет, но эти сожаления тщетны. Нельзя искусственно воскресить дух партикуляризма, который не имеет больше почвы. Можно еще при помощи каких-нибудь остроумных комбинаций улучшить функционирование правительственной машины, но этим путем немыслимо изменить моральную основу общества. Может быть, удастся несколько облегчить министерства, слишком заваленные работой, доставить несколько больше материала для деятельности местных властей, но каждая область не станет благодаря этому активной моральной средой. Административных мер недостаточно, чтобы достигнуть подобного результата, да и результат этот сам по себе и невозможен, и нежелателен. Единственная децентрализация, которая не разбивала бы национального единства и в то же время позволила бы увеличить число центров общей жизни, это та, которую можно было бы назвать профессиональной децентрализацией. Так как каждый из этих центров был бы очагом лишь одной специальной и ограниченной сферы деятельности, то они были бы неотделимы один от другого, и индивид мог бы поэтому привязаться к одному из них, не порывая своей солидарности с целым. Социальная жизнь только тогда может делиться, сохраняя единство, когда каждое из этих подразделений представляет особую функцию. Это поняли те писатели и государственные люди — и число их все увеличивается, которые хотели бы сделать профессиональную группу базой нашей политической организации, т. е. разделить избирательную коллегию не по территориальным округам, а по корпорациям. Но только для этого надо прежде всего организовать корпорацию. Надо, чтобы она была чем-то большим, чем простое собрание индивидов, которые встречаются в день выборов, не имея между собою ничего общего. Она только тогда будет в состоянии исполнять предназначаемую ей роль, когда перестанет быть условным, временным соединением и сделается определенным институтом, коллективной личностью, имеющей свои нравы и свои обязанности, свое единство. Великая трудность задачи состоит не в том, чтобы постановить декретом, что представители будут избираться по профессиям и что их приходится столько-то на долю каждой из них, а в том, как сделать, чтобы каждая корпорация стала моральной индивидуальностью. Иначе мы только прибавим искусственную и внешнюю рамку к тем, которые существуют и которые мы хотим заменить. Таким образом, монография о самоубийстве захватывает
область, которая лежит за пределами того частного разряда фактов, который она
специально изучает. Подымаемые ею вопросы совпадают с самыми важными
практическими проблемами современности. Ненормальный рост самоубийств и общее
тяжелое состояние современных обществ имеют общие причины. Это небывало
огромное число самоубийств доказывает, что цивилизованные общества находятся в
состоянии глубокого преобразования, и свидетельствует о серьезности недуга —
можно даже сказать, что она измеряется этим числом. Когда теоретик говорит об
этих страданиях, то можно думать, что он преувеличивает или неверно объясняет
их. Но здесь, в статистике самоубийств, они как бы регистрируются сами собой,
не оставляя места личной оценке. Нельзя остановить дальнейший упадок
коллективного духа, не ослабив коллективную болезнь, которой он является признаком
и равнодействующей. Мы показали, что для достижения этой цели нет надобности ни
искусственно возрождать устарелые социальные формы, которым можно сообщить
лишь видимость жизни, ни изобретать совершенно новые формы, не имеющие себе
аналогичных в истории. Но надо разыскать в прошлом зародыши новой жизни и
ускорить их развитие. Мы не могли в настоящем труде определить с большей
точностью, в какой форме эти зародыши разовьются в будущем, т. е. какова будет
в деталях профессиональная организация, которая нам нужна. Лишь после
специального исследования о корпоративном режиме и законах его эволюции можно
было бы точнее сформулировать вышеприведенные заключения. И не надо
преувеличивать интереса, какой представляют те слишком подробные программы,
которые обыкновенно любили составлять политические философы. Это фантазии,
слишком удаленные от сложности фактов, чтобы годиться для чего-нибудь на
практике. Социальная действительность слишком сложна и слишком малоизвестна,
чтобы можно было предвидеть подробности. Только прямое соприкосновение с
вещами сообщает данным науки недостающую им определенность. Раз установлено,
что зло существует, раз мы знаем, в чем оно состоит и от чего оно зависит,
знаем, следовательно, общий характер лекарства и способ его применения, то
надо не планы составлять, которые заранее все предвидят, а решительно взяться
за дело. ОГЛАВЛЕНИЕ
КНИГА I. ФАКТОРЫ ВНЕСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВА I.
САМОУБИЙСТВО И ПСИХОПАТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ ГЛАВА II.
САМОУБИЙСТВО И НОРМАЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ. РАСА. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ ГЛАВА III. САМОУБИЙСТВО И КОСМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КНИГА II СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И
СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ ГЛАВА II. ЭГОИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО ГЛАВА III. ЭГОИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО (продолжение) ГЛАВА IV.
АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО ГЛАВА V. АНОМИЧНОЕ
САМОУБИЙСТВО ГЛАВА VI. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ САМОУБИЙСТВ КНИГА III. О САМОУБИЙСТВЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ
ЯВЛЕНИИ ВООБЩЕ ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В САМОУБИЙСТВЕ ГЛАВА II
САМОУБИЙСТВО В РЯДУ ДРУГИХ СОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ГЛАВА III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ Оглавление: Предисловие Введение I. Необходимо установить путем объективного определения предмет исследования. Объективное определение самоубийства. Оно предохраняет как от произвольных изъятий, так и от ошибочных сближений: самоубийства животных устраняются. Объективное определение намечает связь между самоубийством и обычными формами поведения II. Разница между самоубийством как индивидуальным актом и самоубийством как коллективным явлением. Социальная норма числа самоубийств. Своим постоянством и своей специфичностью она превосходит норму общей смертности III Социальный процент
самоубийств есть, таким образом, явление sui generis; оно-то и составляет
предмет настоящего исследования Книга I ФАКТОРЫ ВНЕСОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА Глава I Самоубийство и
психопатические состояния Главные внесоциальные факторы, способные иметь влияние на социальный процент самоубийств: индивидуальные стремления достаточной общности, состояние физической среды I. Теория, согласно которой самоубийство является лишь следствием сумасшествия. Два способа ее защиты: 1) самоубийство есть мономания; 2) самоубийство есть явление, сопутствующее сумасшествию и встречающееся исключительно в связи с этим последним II. Верно ли, что самоубийство есть мономания? Существование мономаний вообще уже более не признается. Клинические и психологические основания, противоречащие этой гипотезе III. Можно ли рассматривать самоубийство, как специфическое проявление сумасшествия? Сведение всех видов психопатического самоубийства к четырем типам. Наличность вполне разумных самоубийств, не уменьшающихся в эти рамки IV. Но быть может, самоубийство, не будучи продуктом сумасшествия, находится в тесной связи с неврастенией? Основания, заставляющие думать, что неврастеник представляет наиболее распространенный среди самоубийц психологический тип. Необходимость точно установить, в какой степени это условие индивидуального порядка влияет на процент самоубийств. Метод, ведущий к этой цели: выяснение вопроса, изменяется ли процент самоубийств параллельно проценту сумасшествий. Отсутствие всякой связи между колебаниями этих двух величин в зависимости от пола, возраста, религии, страны, уровня цивилизации. Чем объясняется это отсутствие связи: неопределенность последствий, к которым приводит неврастения V. Нет ли более тесного
соотношения между процентом самоубийц и процентом алкоголиков? Сопоставление
процента самоубийств с географическим распределением проступков, совершаемых на
почве алкоголизма, помешательств алкоголического характера и потребления алкоголя.
Отрицательные результаты такого сопоставления Глава II Самоубийство и
нормальные психические состояния. Раса. Наследственность I. Необходимость определить понятие расы. Единственным ее признаком может служить наличность унаследованного типа; но в таком случае слово это принимает совершенно неопределенный смысл. Необходимость величайшей осторожности в обращении с ним II. Три главные расы, различаемые Морселли. Весьма крупные различия в наклонности к самоубийству среди славян, кельто-романских народов и народов германского происхождения. Одни только немцы имеют обыкновенно интенсивную склонность к самоубийству, но они теряют ее вне пределов Германии. Мнимая связь между числом самоубийств и высотою роста есть результат простого совпадения III. Раса могла бы быть фактором самоубийства лишь в том случае, если бы это последнее представляло собой явление, коренным образом наследственное; недостаточность доказательств в пользу этого наследственного характера самоубийства: 1) частота случаев, приписываемых наследственности, не выяснена; 2) возможность другого объяснения; влияние мании и подражания. Соображения, говорящие против существования этого специального вида наследственности: 1) непонятно, почему женщины в меньшей степени наследуют наклонность к самоубийству, чем мужчины; 2) изменение процента самоубийств с возрастом не согласуется с этой гипотезой Глава III Самоубийство и
космические факторы I. Климат не оказывает на самоубийство никакого влияния II. Температура. Сезонные колебания числа самоубийств; их общность. Попытки итальянской школы объяснить их влиянием температуры III. Спорные представления о характере самоубийства, лежащие в основе этой теории. Исследование фактов; влияние чрезмерной жары или чрезмерного холода ничего не доказывает; отсутствие связи между процентом самоубийств и сезонной или месячной температурой; самоубийства редки в большинстве жарких стран. Гипотеза, согласно которой лишь первые проявления жары оказывают в данном случае вредоносное действие. Она не согласуется: 1) с непрерывным характером кривой самоубийств как на восходящей, так и на нисходящей ветви, 2) с тем фактом, что первые холода, которые должны были бы оказывать то же самое влияние, в действительности никакого влияния не оказывают IV. Каковы же действительные причины сезонных колебаний числа самоубийств? Полный параллелизм между месячными колебаниями числа самоубийств и изменениями долготы дня; подтверждением ему служит тот факт, что самоубийства всегда совершаются днем. Источник этого параллелизма: дело в том, что в течение дня социальная жизнь достигает своего полного напряжения. Объяснение это подтверждается тем фактом, что самоубийство достигает максимума в те дни и часы, когда достигает максимума и социальная активность. Объяснение с этой точки зрения сезонных колебаний числа самоубийств; различные данные, подтверждающие установленную нами связь. Итак, месячные колебания процента самоубийств зависят от социальных причин Глава IV Подражание I Подражание есть явление индивидуальной психологии. Важность выяснения вопроса о том, оказывает ли оно известное влияние на социальный процент самоубийств. I. Различие между подражанием и некоторыми другими явлениями, с которыми его смешивают. Определение подражания. II. Многочисленные случаи, в которых самоубийство передается от индивидуума к индивидууму посредством заражения; различия между фактами заражения и эпидемиями. Проблема о возможном влиянии подражания на процент самоубийств остается нерешенной III. Влияние это должно изучаться на почве географического распределения самоубийств. Критерии, посредством которых оно может быть установлено. Приложение этого метода к карте распределения самоубийств во Франции по округам, в департаменте Sene-et-Marne по коммунам и в Европе вообще. В результате никаких видимых следов подражания на географическом распределении самоубийств не оказывается. Растет ли процент самоубийств с увеличением числа читателей газет? Соображения, заставляющие склониться к отрицательному ответу на этот вопрос IV. Причина того, что подражание не оказывает заметного действия на процент самоубийств: оно не представляет собою первичного фактора, но лишь усиливает влияние других факторов. Практический вывод из рассмотрения этого вопроса: нет основания ограничивать гласность судебных процессов. Теоретический вывод: подражание не играет в социальной жизни той важной роли, которая ему приписывается. Книга II СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТИПЫ Глава I Метод их определения I. Чрезвычайную важность представляла бы морфологическая классификация типов самоубийства, дающая возможность спуститься затем к его причинам; неосуществимость такой классификации. Единственный практически возможный метод — это классифицировать самоубийства по их причинам. Почему этот последний более, чем всякий другой, приг оден для социологического изучения самоубийства II. Как установить причины? Сведения, даваемые статистикой относительно предполагаемых мотивов самоубийства, 1) подозрительны, 2) не дают возможности узнать истинные причины. Единственный надежный метод — это исследовать, как изменяется процент самоубийства в связи с различными сопровождающими явлениями социального порядка. Глава II Эгоистическое
самоубийство I. Самоубийство и религия. Общее повышение процента самоубийств, вызываемое протестантизмом; иммунитет католиков и в особенности евреев II. Иммунитет католиков зависит не от того, что они составляют меньшинство в протестантских странах, но от того, что им в меньшей степени свойствен религиозный индивидуализм и что вследствие этого католическая церковь является более сплоченной. Применение этого объяснения к евреям. III. Обоснование этого объяснения: 1) иммунитет Англии по сравнению с другими протестантскими странами, связанный с большей сплоченностью англиканской церкви; 2) религиозный индивидуализм растет параллельно развитию вкуса к знаниям; но а) вкус к знаниям сильнее выражен у народов протестантских, чем у народов католических, б) вкус к знаниям растет вместе с процентом самоубийств во всех тех случаях, когда он соединяется с прогрессом религиозного индивидуализма. Евреи, представляя кажущееся исключение, в действительности дают новое подтверждение этому закону. IV. Выводы из этой главы: Г) наука есть лекарство против той болезни, симптомом которой является развитие самоубийств, а не причина ее; 2) если религиозное общество предохраняет от самоубийств, то просто потому, что оно есть общество крепко сплоченное Глава III Эгоистическое
самоубийство (продолжение) I. Общий иммунитет лиц, состоящих в браке, по вычислению Бертильона. Недостатки того метода, которым он, по-видимому, пользовался. Необходимость более тщательно выделять влияние возраста и семейного положения. II. Объяснение этих законов. Коэффициент предохранения супругов не зависит от брачного подбора. Доказательства этого: 1) соображения априорного характера; 2) фактические доказательства, опирающиеся а) на колебания коэффициента в различных возрастах, 6) различия в степени того иммунитета, которым пользуются состоящие в браке мужчины и женщины. Чему этот иммунитет обязан своим существованием: браку или семье? Соображения, противоречащие первой гипотезе: 1) контраст между стационарным состоянием брачности и непрерывным возрастанием процента самоубийств; 2) слабый иммунитет бездетных супругов; 3) возрастание числа самоубийств у бездетных супругов III. Вызывается ли брачным подбором тот слабый иммунитет, которым пользуются бездетные женатые мужчины? Возрастание процента самоубийств среди бездетных замужних женщин говорит против этого. Каким образом можно объяснить, не прибегая к брачному подбору, тот факт, что у бездетных вдовцов коэффициент предохранения частично сохраняется. Общая теория вдовства IV. Почти весь иммунитет мужа и безусловно весь иммунитет жены обязан своим существованием влиянию семьи. Он растет с увеличением состава семьи, т. е. с повышением степени ее интеграции V. Самоубийство и кризисы политического и национального характера. Понижение процента самоубийств под влиянием этих последних есть явление действительное и всеобщее. Оно вызывается тем, что на почве этих кризисов социальная группа приобретает более высокую степень интеграции VI. Общие выводы этой главы.
Прямая зависимость между процентом самоубийств и степенью интеграции социальных
групп, каковы бы они ни были. Причина этой зависимости; почему и при каких
условиях общество необходимо индивидууму. С ослаблением связей между индивидом
и обществом возрастает число самоубийств. Доказательства этого положения.
Природа эгоистического самоубийства Глава IV. Альтруистическое
самоубийство I. Самоубийство у низших обществ: по своим отличительным признакам оно противоположно эгоистическому самоубийству. Природа обязательного эгоистического самоубийства. Другие формы этого типа II. Самоубийства в европейских армиях; повсеместное увеличение процента самоубийств под влиянием военной службы. Увеличение это не может быть объяснено ни холостым состоянием, ни алкоголизмом. Оно не вызвано отвращением к службе. Доказательства: оно становится больше по мере того, как возрастает количество лет, проведенных на военной службе; оно сильнее а) у вольноопределяющихся и сверхсрочных, б) у офицеров и унтер-офицеров, чем у простых солдат. Оно создается духом армии и тем альтруизмом, который этому последнему свойствен. Доказательства: 1) оно тем значительнее, чем менее склонен народ к эгоистическому самоубийству; 2) оно достигает максимума в избранных войсках; 3) оно ослабляется с развитием эгоистического самоубийства III. Полученные результаты
оправдывают избранный нами метод. Глава V Аномичное
самоубийство I. Число самоубийств возрастает под влиянием экономических кризисов. Возрастание это наблюдается и во время внезапного экономического процветания: примеры Друссии, Италии. Всемирные выставки. Самоубийство и богатство II. Объяснение этой зависимости. Человек может жить лишь в том случае, если его нужды находятся в соответствии со средствами их удовлетворения, а это подразумевает ограниченность последних. Ограничивает их общество; способ, каким оно в нормальных случаях оказывает это умеряющее влияние. Всякий кризис мешает обществу выполнять эту функцию,--- отсюда дезорганизация, аномия, самоубийства. Подтверждение этого, основанное на связи, наблюдаемой между самоубийством и богатством III. Аномия представляет в настоящее время хроническое состояние экономического мира. Обусловленные этим самоубийства. Природа анемичного самоубийства IV. Самоубийства, создаваемые
брачной аномией. Вдовство. Развод. Параллелизм между разводами и самоубийствами.
Он создается природой брака, которая оказывает противоположное действие на
мужей и жен; аргументы, подтверждающие это. В чем состоит эта природа брака.
Ослабление брачной дисциплины, подразумеваемое разводом, усиливает наклонность
к самоубийству у мужчин, ослабляет ее у женщин. Причина этого антагонизма. Доказательства,
подтверждающие наше объяснение. Воззрение на брак, вытекающее из этой главы Глава VI Индивидуальные формы
различных типов самоубийства Важность и возможность дополнения предыдущей этиологической классификации классификацией морфологической. I. Основные формы, принимаемые тремя порождающими самоубийства течениями, когда они воплощаются в индивидах. Смешанные формы, являющиеся результатом сочетания этих основных форм II. Следует ли при этой классификации принимать во внимание то орудие, которое самоубийца избирает, чтобы покончить с собой? Выбор этот зависит от социальных причин. Но эти причины не зависят от тех, которыми определяется самый факт самоубийства. Они не входят, таким образом, в рамки настоящего исследования. Книга III О САМОУБИЙСТВЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ ЯВЛЕНИИ ВООБЩЕ Глава I Социальный элемент в
самоубийстве I. Итоги предыдущих изысканий. Отсутствие связи между процентом самоубийств и явлениями космического или биологического порядка. Определенная взаимозависимость между социальными фактами. Таким образом, социальный процент самоубийств соответствует коллективной наклонности общества. II. Постоянство и определенность этого процента не могут быть объяснены иным способом. Теория, посредством которой Кетле пытался объяснить эти особенности процента самоубийств: средний человек. Несостоятельность теории Кетле: правильность статистических данных наблюдается даже в области таких фактов, которые выходят за пределы средней. Необходимость допустить такую силу или группу таких социальных сил, интенсивность которых выражается социальным процентом самоубийств III. Под такой коллективной силой можно подразумевать лишь одно: реальность внешнюю по отношению к индивиду и высшую, чем индивид. Изложение и разбор возражений, сделанных против такого взгляда: 1. Возражение, состоящее в том, что социальный факт не может передаваться иначе как посредством межиндивидуальных традиций. Ответ: процент самоубийств не может передаваться таким образом. 2. Возражение, состоящее в том, что индивид есть единственно реальное в обществе. Ответ: а) бывают слу-чаи, когда материальные, внешние для индивида вещи возводятся в степень социальных фактов и в этом качестве играют роль sui generis; б) те социальные факты, которые не объективируются этим способом, выходят из рамок какого бы то ни было индивидуального сознания. Субстратом их является совокупность индивидуальных сознаний, объединенных в общество. При этом только что изложенная концепция не заключает в себе ничего онтологического IV. Приложение этих идей к самоубийству Глава II Соотношения между
самоубийством и другими социальными явлениями Метод для определения того, следует ли самоубийство отнести к категории нравственных или же к категории безнравственных поступков I. Исторический очерк различных юридических и моральных квалификаций самоубийства у различных обществ. Историческое развитие сопровождается все более и более энергичным осуждением самоубийства, за исключением эпох упадка. Смысл этого осуждения; в современных обществах, при нормальном их устройстве, оно обосновано более, чем когда бы то ни было II. Соотношение между самоубийством и другими формами безнравственности. Самоубийство и преступления против собственности; отсутствие всякой связи между ними. Самоубийство и убийство; теория, согласно которой оба они являются выражением одного и того же психоорганического состояния, но зависят от противоположных социальных условий III. Разбор первой части этого положения. Пол, возраст, температура оказывают совершенно неодинаковое воздействие на эти два явления IV. Разбор второй его части.
Случаи, когда противоположность социальных условий не имеет места. Более многочисленные
случаи, когда она имеет место. Объяснение этого кажущегося противоречия:
существование различных типов самоубийства, из которых одни исключают
убийство, тогда как другие зависят от тех же социальных условий, что и оно.
Природа этих типов; почему первые фактически более многочисленны, чем вторые. Вышеизложенное выясняет вопрос об историческом взаимоотношении эгоизма и альтруизма Глава III Практические выводы I. Решение практического вопроса меняется в зависимости от того, признается ли современный уровень самоубийств нормальным или ненормальным явлением. Как должен быть поставлен.вопрос, несмотря на имморальную природу самоубийства. Основания, по которым в умеренном проценте самоубийств не следует видеть ничего болезненного. Но во всяком случае, в том проценте самоубийств, который в настоящее время господствует среди европейских народов, приходится видеть признак патологического состояния II. Средства, предложенные для врачевания этого зла: 1) Меры репрессивные; какие из этих мер применимы на практике; почему они могут иметь лишь ограниченное значение. 2) Воспитание. Оно не может реформировать морального состояния общества, ибо само является лишь отражением последнего. Необходимо воздействовать на самые причины, порождающие самоубийства; можно, однако, игнорировать альтруистическое самоубийство, которое по природе своей не заключает в себе ничего ненормального. Средство борьбы с эгоистическим самоубийством: надо сделать более сплоченными группы, окружающие индивидуума. Какие из них наиболее пригодны для этой роли? Для этого не годится ни политическое общество, которое слишком далеко отстоит от индивида, ни религиозное общество, которое в состоянии социализировать индивидуумов, лишь отнимая у них свободу мысли, ни семья, которая мало-помалу сводится к брачной паре. Самоубийства супругов численно возрастают, совершенно так же, как и самоубийства лиц, не состоящих в браке. III. Профессиональная группа. Почему только она одна в состоянии выполнить вышеуказанную функцию? Чем она должна стать в этих видах? Каким путем она может создать моральную среду? Каким образом она может послужить тормозом также и для аномичного самоубийства? Случай брачной аномии. Антиномия этой проблемы: антагонизм полов. Средства к его устранению IV. Заключение. Современный уровень числа самоубийств есть признак морального бедствия. Что следует понимать под моральным сознанием общества? Предлагаемая реформа требуется всею совокупностью нашей исторической эволюции. Исчезновение всех социальных групп, промежуточных между индивидом и государством; необходимость их восстановления. Профессиональная децентрализация противоположна децентрализации территориальной,— она есть необходимый базис социальной организации. Важность вопроса о самоубийстве; его связь с самыми крупными практическими проблемами текущего времени |